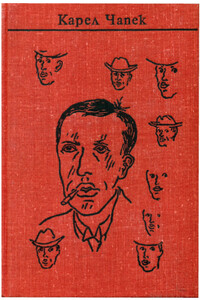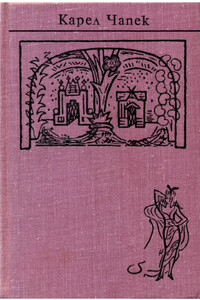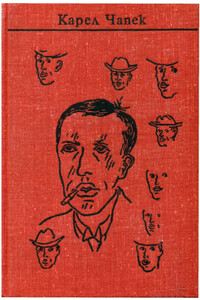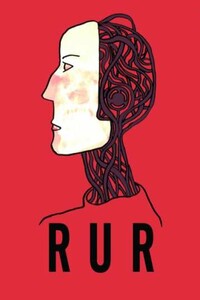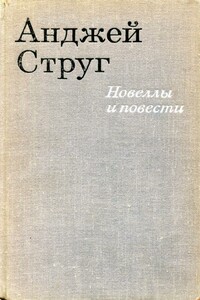Том 3. Романы | страница 152
Если отвлечься от внешних событий, то в жизни Кеттельринга чередовались два состояния — скука и опьянение. И ничего другого, больше ничего. Скука переходила в опьянение, и опьянение сменялось скукой. В скуке — самая страшная и противная будничность. Внимание человека, объятого скукой, устремлено на все мелкое, противное, пустое, безнадежное. От него не укроется ничто смрадное и ветхое, он внимательно следит за бегущим клопом, за разложением падали, за растущей трещиной в потолке, он остро ощущает всю гнусность жизни. А опьянение? Пусть оно вызвано ромом, скукой, наслаждением или жарой — лишь бы человек был увлечен, лишь бы помрачились чувства, лишь бы им овладел бешеный восторг. Хочется схватить все, все сразу, набивать себе рот, рвать добычу руками, жадно выжать все наслаждение и насытиться им до предела — и соком фруктов, и женским телом, и прохладой листвы, и пылающим огнем. Если ничему нет границ, нет их и для нас, все, что движется, движется в нас самих. Это в нас покачиваются пальмы и женские бедра, в нас струятся солнечные блики и неустанно плачет вода. Посторонитесь же, дайте дорогу человеку, который так велик и так пьян, что вмещает в себе все — и звезды, и шум деревьев, и распахнутые врата ночи. Ах, что за пейзажи рисуют нам опьянение или скука! Пейзажи, застывшие в сухой, мертвой неподвижности или пропитанные гнилостной сыростью, полные липкой грязи, мух, зловония, разложения… Или другие, подобные праздничному хороводу, пронизанные ароматами, жгучим желанием, душными цветами, влагой и головокружением…
Знаете, из скуки и опьянения можно создать отличный ад со всем, что полагается; он будет так обширен, что вместит в себя еще и рай — рай со всеми его отрадами и восторгами, с его наслаждениями; этот рай и есть самая пучина ада, ибо там рождаются отвращение и скука.
Назовем наугад: Гаити, Пуэрто-Рико, Барбуда, Гваделупа, Барбадос, Тобаго, Кюрасао, Тринидад. Голландские торговцы, британский колониальный «свет», морские офицеры из США, скептическая, нечистоплотная французская бюрократия. И всюду креолы, щебечущие на patois[80] негры, filles de couleur[81], много людей жестоких, еще больше несчастных, а больше всего тех, кто тщится сохранить свое достоинство, поколебленное пьянством, зудом и связями с цветными женщинами.
Наш Икс не искал новых путей, пока можно было идти проторенными, и все же ему приходилось недели и месяцы жить где-то у самых джунглей, сотрясаемых ветром или дымящихся от тропических ливней, под соломенной крышей, в хижине, построенной на сваях, как голубятня, — чтобы не досаждали крабы и стоножки. Здесь он восседал на деревянных ступеньках, и, пока негр вытаскивал клещей из его ступни, Кеттельринг надзирал за тем, как еще несколько сот акров, отвоеванных у дикой природы, превращаются в посев, где вырастает злак, именуемый Процветанием. Благодать цивилизации нисходит на этот край — она в том, что неграм отныне придется работать больше, чем прежде, но они останутся такими же нищими, как были. Зато где-то далеко, в другой части света, крестьянам станут убыточны плоды их труда. Таков ход вещей, и мистеру Кеттельрингу все это совершенно безразлично. Тростник так тростник. Пусть же стучат топоры, жужжат москиты и кряхтят негры — в конце концов все эти звуки просеются и откристаллизуются в цокот пишущих машинок… Нет, это не пишущие машинки, это квакают лягушки, трещат цикады, птица стучит клювом по дереву… Нет, это не птица и не шелест стеблей, это все-таки стучит машинка: мистер Кеттельринг сидит на земле и тычет пальцем в ржавые клавиши — всего лишь деловое письмо принципалу, ничего больше, но проклятая машинка насквозь проржавела от сырости!..