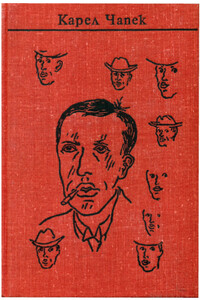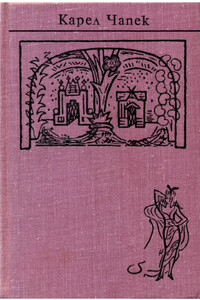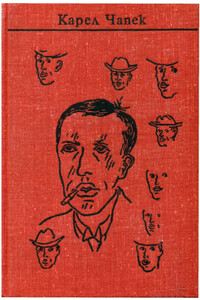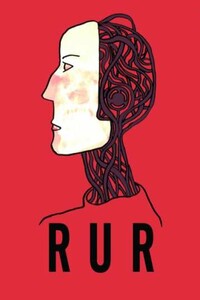Том 3. Романы | страница 115
Ясновидец пожал острыми плечами.
— Разумеется, результат был убийственный. Корифей науки несколькими словами в пух и прах разбил гипотезы молодого химика. Вздор, это невозможно, вы, очевидно, не знакомы с работами такого-то и такого-то, прочтите ту и эту монографию. И под конец великодушное снисхождение: впрочем, можете остаться работать у меня, я вам поручу кое-какую работу, например, поправлять фитили горелок или обслуживать фильтры. А если вы проявите терпение и научитесь работать, как ученый… Но пациент Икс не был терпелив и не хотел учиться работать, как ученый. Бормоча что-то нечленораздельное, он покинул кабинет корифея и бежал от развалин своего химического воздушного замка в такой панике, что… что остановился лишь на пороге совсем иного мира, где негры добродушно и совсем ненаучно скалили белые зубы.
Ясновидец поднял палец.
— Не поймите меня превратно. Бонза от химии поступил правильно и честно, он оградил науку от дилетантства. Он охотно принял бы доказанные факты, но принципиально отверг гипотезы, которые прежде всего внесли бы в науку беспорядок и неуверенность. Он должен был опровергнуть гипотезу нашего химика, ибо в жизни ничто не происходит случайно и наобум, ею управляет необходимость.
Хирург, видимо, опасаясь, что ясновидец опять перейдет к отвлеченным рассуждениям, быстро спросил:
— Больше он уж не занимался химией?
— Нет, не занимался. Он не знал внутреннего голоса, который сказал бы ему: „Ничего, это пройдет, поди поиграй, малыш“. Каждая катастрофа в его жизни бывала окончательной и непоправимой. Когда несколько слов корифея разрушили все его построения, в нем вдруг с необычайной силой вспыхнуло свойственное ему ощущение одиночества и заброшенности… понимаете, почти удовлетворение тем, что он потерпел такой провал, что все пошло прахом. Он спрятал свои тетради, даже не взглянув в них, бросил работу на сахарном заводе — лететь так уж с треском! — и сам ужаснулся своему ощущению тщеты и никчемности, а еще больше тому, что, собственно говоря, отлично чувствует себя среди этой страшной разрухи.
— Он был молод, — заметил хирург. — Разве у него не было никакой привязанности?
— Была…
— Девушка?
— Да.
— Он любил ее?
— Да.
Стало тихо. Ясновидец, охватив руками колени, опустил глаза и раздраженно присвистнул.
— Не буду рассказывать всего, — процедил он наконец. — Я ведь не его биограф. Конечно, и в его любви было одиночество и протест, и, конечно, он погубил ее, как губил все в своей жизни: из упрямства и из-за того, что ушел, захотев одиночества. Какое опустошение! Теперь можно присесть и созерцать осколки разбитого вдребезги. Ребенком он, бывало, прятался в кладовке со старым хламом. Там его никто не видел, там он был наедине с собой, и его протест таял в одиночестве. Все время одна и та же закономерность, один и тот же ритм жизни. — И ясновидец начертил что-то в воздухе. — Упрямство толкает его вперед, одиночество освобождает. Он не двинулся бы с места, но его подстегивает протест. Из упрямства он отстаивал бы свои позиции, но одиночество в нем словно машет рукой: „Э-э, стоит ли, к чему все это?“ И опять начинаются скитания.