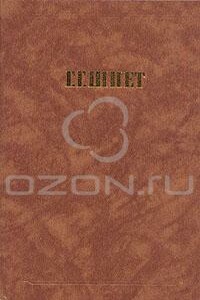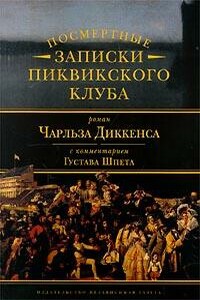История как проблема логики. Часть первая. Материалы | страница 50
Связь между тремя названными понятиями несомненная, и притом именно в таком виде, как это указывает Риккерт. И точно также несомненно, что каждая из этих дисциплин, раз они возможны, имеет совершенно самостоятельное значение и не исключает другой. Но именно эта мысль у Риккерта затемняется его утверждением, будто нельзя даже приступить к работе в области философии истории, не ответив предварительно на логические вопросы. Это не есть, конечно, отрицание факта: философии истории писались и пишутся, хотя логическая работа вообще, и в частности логический анализ философско-исторических понятий, далеки еще от своего конца. Следовательно, это есть нечто большее, – отрицание возможности, т. е. отрицание существенного значения подобного рода опытов философии истории. Но так ли это? Действительно ли философия истории по существу невозможна, пока логика не сделала своего дела?
Обратим внимание на переходы от одного понимания философии истории к другому, как это изображено у Риккерта. В то время как первый переход от универсальной истории к философии истории есть переход от действительности к ее же принципам, второй переход от философии истории к логике есть переход от действительности к понятиям и принципам науки об этой действительности. Философия истории с ее принципами и логика исторического познания (изображения этой действительности) с ее принципами – вещи до такой степени разные, что их смешение может быть допущено только при смешении двух здесь различных значений термина «принципы». И действительно, допустим, что универсальная история «необходимо приводит» к философии истории, – что это значит? Это значит, что универсальная история без принципов философии истории будет несовершенной, можно сказать «догматической», в том смысле, что она не критически установит свой принцип единства, т. е. «произвольно» поймет это единство, и следовательно, может субъективное мнение выдавать за нечто присущее самой действительности. Но может случиться и иначе, что автор универсальной истории совершенно адекватно выразит принцип единства, заключающийся в действительности, не прибегая вовсе к помощи философско-исторических анализов, – как можно, например, утверждать, что законодательная власть в Англии принадлежит парламенту, не изучая предварительно государственного права.