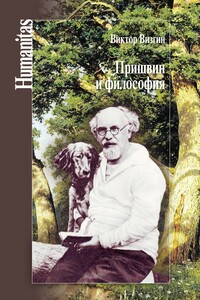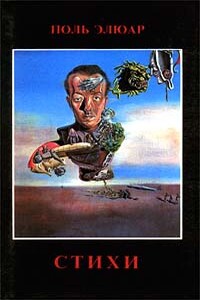В поисках утраченного смысла | страница 105
Примесь жеста вообще есть в каждом действии Ореста, извращая все, что бы он ни предпринял. Даже в самый «звездный» свой час он не может от этого избавиться и к делу – убийству Эгисфа – добавляет жест: убивает Клитемнестру. Расправа над матерью после смерти тирана никому не нужна, не оправдана даже исступлением момента, поскольку Орест заранее предупредил, что мстит с холодной головой. Лишний труп нужен разве что ему самому, чтобы сполна унаследовать всю преступность кровавого рода Атридов, взвалить на хрупкую и непорочную душу невыносимое бремя, которое бы сделало его наконец плотным, жизненно полновесным, значимым. Оресту крайне важно распрощаться с собой прежним, девственно-призрачным, которого никто не принимает всерьез, ни просто в расчет. Перестать казаться – кем-то быть. Пусть извергом – в городе, отравленном угрызениями совести, это вполне уместно, и чем чудовищнее злодейство – тем лучше. Орест настолько поглощен этим самоутверждением в глазах других, что волей-неволей превращает аргосцев в ошарашенных зрителей своих деяний – в простых посредников, с помощью которых он, «не связанный обязательствами от рождения», исключенный из общей жизни, присваивает ее теплые токи. Взоры других становятся для него магическим зеркалом, которое возвращает ему его жесты, но «очеловеченными», опаленными живой страстью, восторгом или ужасом – не все ли равно?
Однако заворожить публику еще не значит зажить одной с ней жизнью. Обитатели Аргоса, встречая Ореста бранью и улюлюканьем, на свой лад признают его заслуги возмутителя спокойствия, но не признают своим. И не пускают под свой кров, к своим очагам, в свое сердце. Их проклятия и, еще больше, их гробовое молчание – это, конечно, далеко не окончательный приговор его делу и не признак их полнейшей правоты. Но несомненно – свидетельство того, что ни завоевать для Аргоса свободу, ни завоевать себе место в его стенах Оресту не удалось. В утешение ему остается одно – наверстать в вымысле потерянное в действительности. Вырвать себя из повседневно-житейского ряда, где он потерпел поражение, и предстать перед всеми в ореоле легендарного искупителя. Под занавес, прежде чем навсегда покинуть не принявший его город, Орест рассказывает толпе слушателей предание о крысолове с волшебной флейтой, некогда спасшем Скирос. Он как бы приглашает отнести легенду к только что случившемуся, лишь заменив крыс на мух. Ему, однако, невдомек, что замена здесь, если вдуматься, по меньшей мере спорна, граничит с логической неувязкой, хотя Орест волею Сартра действительно уводит за собой рой мух. Но ведь мухи – угрызения совести, которых тираноубийца не признает и не собирается испытывать. И место им скорее в городе, где по-прежнему будет царить дух повального раскаяния, который наверняка станет насаждать Электра – сломленная, удрученная виной своего соучастия в убийстве матери и отчима, преисполненная намерений предаться замаливанию грехов. Заключительное самоувенчание Ореста с помощью древней легенды – последняя попытка очаровать отвергших его сограждан, внедриться не мытьем, так катаньем пусть не в их дальнейшую жизнь, на худой конец – в их умы. Увековечить себя в их памяти и тем спастись от забвения и чувства собственной недостаточности способом, близким к тому, каким надеялись «спастись» от небытия «завоеватели» у Мальро, норовя оставить «след на карте», или каким у самого Сартра спасался Рокантен в «Тошноте», когда решал приняться за книгу о том, что не есть «существование».