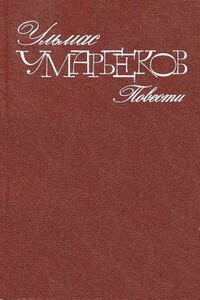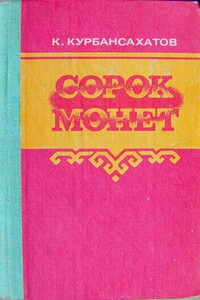Последняя стража | страница 81
Вот и теперь никто не сомневался, что неугомонный парикмахер опять собрался что-то учудить. На сцене он пародировал коменданта Еленина. Даже раздобыл где-то сапоги до самых бедер, а на голову напялил ушанку. И даже вроде бы стал меньше ростом. Вот только щеки у него были не красные, как у коменданта, а скорее изжелта-белые, как у папы Хаймека. И, время от времени, он, как и папа, покашливал. Но в отличие от всегда серьезного папы – какой же он был лихой! Он острил непрерывно – разумеется, на идиш. Его левый глаз непрерывно подмигивал публике всякий раз, когда он заканчивал свой очередной опасный номер. Время от времени он обращался (опять же на идиш) прямо к коменданту Еленину, как если бы тот тоже был евреем и мог бы оценить его, Гиршеля, шутку. Ближе к концу своего выступления Гиршель сказал, обращаясь к залу:
– Я очень доволен, евреи, что мы сюда попали. Очень доволен. Если вы спросите меня, чем же я это так доволен, я вам скажу: «Пока мы с вами отдыхаем здесь на этом курорте, я уверен на все сто процентов, что нам не грозит отправка в Сибирь». Правда, господин комендант?
И сразу после того, как разомлевший комендант Еленин добродушно кивнул, Гиршель закричал:
– Ну, а теперь, евреи, споем нашу любимую!
– Ох, попали мы в дерьмо! – выкрикнул Гиршель первую строку «нашей любимой», которая пелась на всем хорошо известный популярный мотивчик, который требовал припева, звучавшего (и тут же прозвучавшего дружно из зала) так:
Так что вместе вышло:
– Оттого нам так тепло, – продолжил Гиршель, и благодарный зал отозвался: «Ай-ай-ай-ай-ай!»
Ну а теперь скажите – ну, не рисковый ли был он, этот Гиршель, этот «парень из Варшавы?» За одну эту песенку мог бы головы не сносить… Но ничего… обошлось… Но многие евреи долго еще после концерта качали головами…
Пока Гиршель приходил в себя, другой переселенец поднялся и попросил тишины и запел на идиш:
После чего попросил маму Хаймека спеть что-нибудь. Откуда мог он знать про мамин голос?
Мама нехотя поднялась со своего места. Хаймек видел, что она очень рассержена. Хаймек подумал даже, что она может вот так взять и уйти. Но папа, бережно тронув мамину ладонь, сказал негромко:
– Спой, Ривочка. Спой людям…
Примерно с минуту мама стояла, словно оцепенев. Потом лицо ее смягчилось, и она поднялась на сцену. И дивным своим голосом запела колыбельную песенку, которую часто напевала Ханночке, перед тем как уложить ее спать. Когда мама закончила петь, несколько мгновений стояла тишина, а потом под крышей барака-столовой взорвались аплодисменты. Женщины утирали слезы, а мужчины стояли и кричали: «Еще!.. Рива, спой еще…» Но мама, спустившись, уже сидела, закрыв лицо руками между Хаймеком и папой. Плечи ее тряслись, она тяжело дышала. Хаймека распирало от гордости, и он сидел, выпятив грудь. Если бы он отважился, то с удовольствием вскочил бы на скамью и закричал бы на весь барак: «Ага! Видите теперь, какая у меня мама. А я – Хаймек, ее сын!»