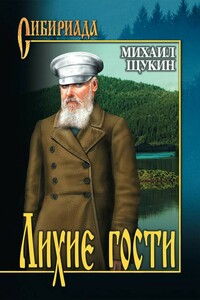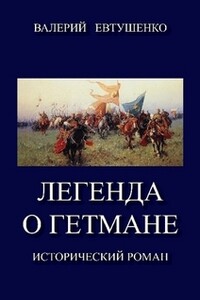Черный буран | страница 63
Подполковник Григоров, вчера только прибывший из отпуска, троекратно расцеловал Василия и молча провел к себе в землянку. Усадил за колченогий столик, коротко приказал:
— Рассказывай.
Василий подробно рассказал обо всем, что произошло в немецком тылу. Григоров молча его выслушал, сжал кулаки. Затем встряхнулся, будто сбрасывал с себя невидимый груз, тихо сказал:
— К третьему Георгию будем тебя представлять, Конев. А пока держи вот эту награду…
Открыл полевую сумку, достал из нее белый платочек и протянул Василию.
— Держи, держи, братец, заслужил, не хуже Георгия такой подарок, — Григоров вложил платок в ладонь Василия и, подумав, добавил: — Придет пополнение, дам тебе отпуск, дней на пять, съездишь…
— Куда? — не понял Василий. — Куда съездить?
— Там адрес, на платке, вот по данному адресу и отправишься. Я с Антониной Сергеевной ехал в одном вагоне, совершенно случайно рассказал о тебе, Конев, и вот… Бывают еще чудеса на свете. Ступай, Конев, радуйся. И скажи моему денщику, чтобы он тебе новые сапоги раздобыл.
Совершенно ошарашенный, ничего не понимая, Василий выбрался из землянки, развернул платок. На белой ткани карандашом четко был написан адрес передового врачебно-питательного отряда. И чуть ниже — «Шалагиной Антонине Сергеевне».
За всю свою жизнь Василий никогда и никому не писал писем — надобности у него такой не было. И вот теперь, раздобыв у писаря два чистых листа бумаги и карандаш, он нашел пустой снарядный ящик, поставил его на ребро и долго ходил вокруг, теребя в руках бумажные листы. Насмелившись, положил их на плохо оструганные доски, присел на колени и, прицеливаясь, будто ткнуть ножом собирался, прислонил карандаш к бумаге и вывел слышанное от сослуживцев, когда они читали письма из дома: «Добрый день или вечер…» И — заколодило. Дальше он не мог написать ни единого слова. Поднимался, ходил вокруг снарядного ящика, снова присаживался, крутил головой, оглядываясь назад, словно ждал от кого-то помощи — безо всякой пользы была его суета. Слова разлетались, будто спугнутая ружейным выстрелом птичья стая, и не было никакой возможности собрать их, выстроить одно за другим и поведать Тонечке на бумаге обо всем, что случилось с ним, о тех мыслях, которые он передумал, а еще о том, что он и сейчас, на войне, продолжает думать о ней и даже, случилось однажды, звал ее. Полгода назад, когда ему иссекло спину мелкими осколками ручной бомбы, он лежал, одурманенный хлороформом, на холодном столе в полевом лазарете, изгибался от боли под железным пинцетом в руках врача и кричал: «Тонечка!». Ему казалось в те минуты, что если придет Тонечка и опустит ему на голову легкую ладонь, рвущая боль улетучится. Но Тонечка не пришла и боль не отпускала его, пока он не потерял сознание.