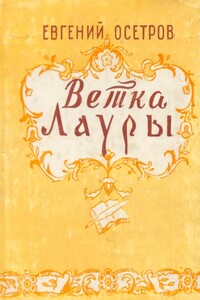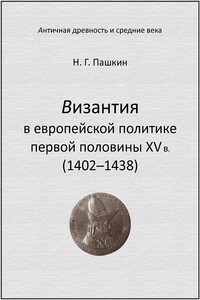Живая древняя Русь | страница 10
Ученый должен всегда отстаивать истину. Даже в том случае, если она не очень приятна, если она идет вразрез с мнениями авторитетов, с устоявшимися представлениями. Но, к разочарованию любителей сенсаций, доктор исторических наук А. Зимин не открыл ничего нового. Горячие головы, утверждавшие, что «Слово»— подделка, находились еще и в пушкинские времена.
В. А. Фаворский. Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».
Пушкин, как известно, отстаивал подлинность «Слова», утверждая, что к моменту публикации произведения в России не было поэта, способного создать эпос такой художественной силы.
Вопрос о подлинности «Слова» обсуждался многократно. Достаточно сказать, что число научных работ, посвященных «Слову», перевалило за тысячу. Один исследователь даже грустно заметил, что «Слово» породило такую литературу, что ее прочесть в течение одной человеческой жизни невозможно. В каждой из работ в той или иной степени рассматривается проблема: что перед нами — подлинник или подделка? Но вопрос возникает вновь и вновь, несмотря на то, что все общепризнанные авторитеты утверждают подлинность произведения. В чем же дело?
В одной из работ выдающегося специалиста по древнерусской литературе Д. С. Лихачева сказано: «Никто никогда не спросит, фальшив ли лежащий на дороге булыжник, но жемчуг может оказаться фальшивым. „Слово о полку Игореве“ так хорошо, что хочется спросить себя: да может ли быть на свете такая красота? Драгоценный его блеск гипнотизирует, тревожит, возбуждает любопытство. Настоящее произведение большого искусства всегда кажется до известной степени загадочным, необъяснимым. Отчасти поэтому и в отношении „Слова“ время от времени возникал вопрос: да могло ли оно быть написано в двенадцатом веке?»
Нередко приходится слышать недоуменный вопрос: так ли уж это важно, когда написана поэма — в двенадцатом столетии или шесть веков спустя? Произведение хорошо, независимо от времени создания.
В. М. Васнецов. Богатыри. Фрагмент. Москва. ГТГ.
Дело обстоит не так просто, как это может показаться с первого взгляда. Приведу еще одно соображение Д. С. Лихачева: «Передатировать „Слово“ нельзя без ущерба для его идейной и эстетической ценности. В двенадцатом веке „Слово“ было произведением огромной идейной силы, произведением, призывавшим к единению, обличавшим усобицы князей. Его общественный пафос огромен, и только в связи с ним можно понять и его эстетическую ценность. В восемнадцатом веке это произведение оказалось бы литературной безделушкой — „пастиш“ (стилизацией), как утверждают одни, или служило бы „империализму“ Екатерины, как утверждают другие. В обоих случаях оно бы утратило значительную часть своей идейной и художественной ценности».