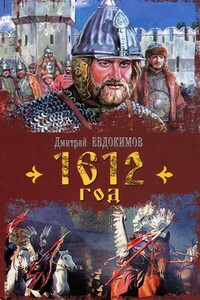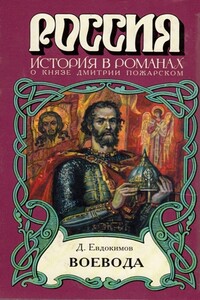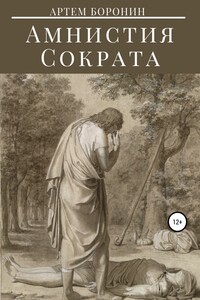За давностью лет | страница 38
Гриню это развеселило.
„Напугала — папе пожалуется. Так твой папа как раз первый...” — „Что „первый”?” — не отставала я.
Гриня понял, что проговорился.
„Ну же! Говори! Иначе водиться с тобой не буду”. — „Твой отец первый, кто против, чтобы тебя во все дела посвящать”. — „Почему?” — „Старается тебя сберечь! " — „От чего?” — „Ведь в случае провала мы все на каторгу пойдем”. — „Ну и что же! Я не боюсь”.
Дома я снова попыталась вызвать отца на разговор. Однако, обычно уступчивый, в этот раз он был непоколебим: „У тебя есть партийное поручение, достаточно”. — „Вы что-то от меня скрываете”. — ,Да, скрываем. Но это требования конспирации. Каждый должен знать только свой участок. Это необходимо на случай провала”. — „Думаешь, струшу?” — „Нет, но у охранки есть свои способы дознания. И даже не поймешь, что проговорилась. И вообще, отстань, я хочу, чтобы у меня были внуки”.
Я покраснела: „Об этом рано думать!” — „Рано, рано. Вон уже трое против твоих чар не устояли... Смотри, Шурочка!”
Он шутливо погрозил мне пальцем. Меня это рассмешило. Я, конечно, и думать еще не думала о замужестве. Незадолго до этого в „Правде” была помещена забавная история, как одна романтическая девица предложила разыграть” свою руку и сердце. Я вспомнила об этом сейчас.
„Может, ты хочешь, чтобы я предложила разыграть меня на „узелки"?” — спросила я отца шутливо.
Он также в шутливом испуге замахал на меня руками: „Что ты, что ты! Разве они нам ровня? Ты давай мне купеческого сынка, да чтоб первой гильдии". — „Банкира не хочешь?!»
Мы дружно расхохотались...
...Говорят, что если тебе бывает очень весело, это не к добру. Ночью мне приснился страшный сон — будто стою я утром перед трюмо и расчесываю свои волосы. Вдруг в комнату вбегает какой-то мальчишка и подает мне конверт. Я беру его и сразу нащупываю обручальное кольцо. Стыд и отчаяние охватывают меня — суженый отказался от своего слова. Я начинаю плакать сначала тихо, потом навзрыд.
Когда я открываю глаза, они еще полны слез. Слышу громкий, настойчивый стук в дверь, голос отца, чужие голоса, возбужденные и злые. Потом ко мне в спальню заглянул отец: „Сашенька, оденься. У нас жандармы".
Грубые люди в шинелях и сапогах, не церемонясь, переворачивали все вверх дном. Под утро они увели отца, не дав мне с ним попрощаться. Утром пришла заплаканная Полина — ночью арестовали и Гриню. Она же рассказала, что якобы два молодых человека, недавно приехавших в город и работавших на станции, покончили оба самоубийством, не поделив какую-то красавицу. Сердце мое сжалось в смутном предчувствии еще одной беды. Пересилив себя, я отправилась на занятия в школу, но часы шли и никто — ни Гусев, ни Афанасьев — так и не появились. Шли дни. Я ходила то в губернское присутствие, то в судебную палату. Наконец меня направили в жандармское управление. Жандармский офицер был внимателен и любезен, осторожно выспрашивал, кто приходил к отцу, что приносили либо уносили. Однако, убедившись в моем нежелании говорить, стал тих и официален, заявил, что мой отец — опасный государственный преступник и свидание с ним дать не может. Я подала прошение губернатору, и мне все же позволили увидеть отца. Свидание длилось десять минут. Отец осунулся, но улыбался мне по-прежнему нежно. Прощаясь, он сказал: „Сашенька! Слушай меня внимательно — продавай немедленно дом и отправляйся в Петербург на учебу".