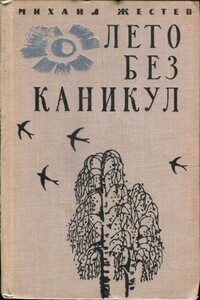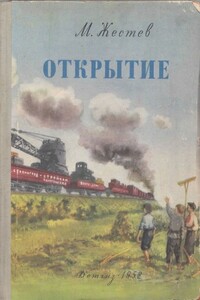Татьяна Тарханова | страница 4
Игнат слушал Сухорукова и примеривался к будущей колхозной жизни. А ведь ему, Игнату, если подумать, колхоз даже сподручнее. Вот уже год, как умерла жена, пора подумать о новой хозяйке, не старый он, только сорок исполнилось, а как новую жизнь начать, если в доме сын Василий и с ним жена его Татьяна? Сейчас ему Василия никак не отделить. Откуда взять второго коня, еще одно гумно, новый хлев, сенной сарай? А будет колхоз — ничего этого человеку не надо. Построил дом — и живи!
Зимняя ночь долга, крепка на сон, но всю ночь люди не спали. Народ провожал старую вековуху — единоличную жизнь и встречал новую, неведомую еще жизнь колхозную. В окнах избы-читальни занимался лиловый зимний рассвет, когда наконец проголосовали за колхоз. А кому быть председателем? Большинство стояло за Еремея Ефремова. Мужик хозяйственный, оборотистый. Хитер, чтобы чужих обмануть, умен, чтобы со своими не лукавить.
Сухоруков взглянул на Тараса Потанина: «Видишь, не по-нашему выходит. Надо бы тебя председателем, а люди требуют Ефремова». Тарас мог спросить: «Не с вас ли, мужики, Еремей шкуру дерет за помол? Не к нему ли на поклон по веснам ходите — дай мучицы до нови?» Не докажешь, что он чистый кулак, — мельница числится за обществом, а главное, что там ни говори, Ефремов действительно лучше его хозяйствовать сможет. И Тарас тихо сказал Сухорукову:
— Я на себя конюшню возьму.
— Давай, — согласился Сухоруков. — На первых порах, должность конюха, может быть, даже поважней.
Проголосовали за Ефремова. Потанин стал его заместителем и старшим конюхом.
Через неделю Игнат запряг свою единственную лошадь Находку, положил в розвальни плуг, железную и деревянную бороны, хомут с летней упряжью и повез этот немудреный паевой капитал на общий колхозный двор, в бывшее помещичье имение. Он въехал под навес и, чтобы продлить расставание с Находкой, долго чистил на конюшне ее денник. Тарханов отдавал лошадь, как тысячи и тысячи мужиков: с грустью и тоской. Но, расставаясь с ней, он меньше всего предполагал, что его любимица будет причиной многих его несчастий, которые вскоре обрушатся на его семью и даже на еще не родившуюся внучку. Да, если бы не Находка, кто знает — может быть, все сложилось бы иначе.
Временами Игнату казалось, что в Пухляках ничто не изменилось. Краем речного обрыва тянулась знакомая, такая привычная для глаза улица бревенчатых, крытых соломой изб. Отстроенные уже после революции, они были на одно лицо — в три окна, с высокой завалинкой, с потускневшими от солнца и дождей венцами. Октябрь поравнял пухляковцев, наделив их одинаковой землей. И не потому ли дом арендатора мельницы Ефремова Еремея ничем не отличался от дома Игната Тарханова? Даже на задах деревни, там, где за огородами высились гумна и риги, одно хозяйство походило на другое. Люди старались строиться так, чтобы ничем не отличаться от соседей, чтобы, упаси боже, не выглядеть богаче других. Только сами пухляковцы хорошо видели, что хозяйство хозяйству рознь. Все знали, что Еремей Ефремов пахал свою землю, и его же хлеб рос на земле Афоньки Князева. Афонька своего хозяйства не вел. Всем было ведомо и то, что торговал с черного хода мануфактурой и кожей бывший лавочник Крутоярский. Да, многое было как прежде. Правда, коней перевели в бывшее помещичье имение да свалили в одно место все плуги и бороны. Ну, еще собраний стало побольше. Насчет семян — собрание. Строить или не строить кузницу — опять собрание. И не обойтись без собрания, ежели надо решить — какие установить поля, как порушить межи. И что ни собрание, то до петухов. Но в остальном ничто еще не изменилось. Главное — хлеб ели свой, единоличный. Еще никто не пробовал колхозного. Тут бы думать да думать мужикам, ночи не спать, все прикидывать: что к чему, как дальше сообща хлеб растить? А жизнь стала словно какой-то беспечной. Неужели свалились с плеч пухляковцев извечные мужицкие заботы?