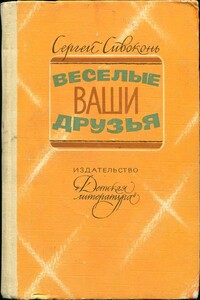Данте в русской культуре | страница 83
Спор Герцена с Белинским, коснувшийся „проблемы Гёте“, отнюдь не означал, что автор „Записок“ солидаризуется с Менцелем[349], который обвинял поэта в эстетическом самолюбовании, эгоизме и отсутствии патриотического чувства с позиции либерального буржуа и немецкого национализма. Еще в „Первой встрече“ один из героев, отводя упреки в единомыслии с Менцелем, резонно возражал философу, „обожателю Гёте“: „Не политики – симпатии всему великому требую я от гения. Великий человек живет общей жизнью человечества…“ [I, 117]. В подобном ракурсе Герцен интерпретировал и путешествие Данте. В цикле статей „Дилетантизм в науке“ он писал: „Когда Данте вступил в светлую область, в которой нет ни плача, ни воздыхания, когда он увидел бесплотных жителей рая, ему стало стыдно тени, бросаемой его телом. Ему, земному, не товарищи были эти светлые, эфирные, и он пошел опять в нашу юдоль, опираясь на свой посох бездомного изгнанника…“ [III, 69].
Критикуя формализм спекулятивной философии[350], Герцен именно в этой работе доказывал необходимость „перевода философии в жизнь“. Он считал, что только в деянии истории разрешается противоречие между всеобщим и частным, мыслью и сущим. Всякому абстрактному умозрению Герцен противополагал „тяжелый крест трезвого знания“ [III, 66]. „Науку, – писал он, – надобно прожить, чтоб не формально усвоить ее“ [III, 68]. Примером трезвого знания был для Герцена Данте: „Он пережил свое становление, выстрадал его; он блуждал по жизни и прошел мучения ада; он лишался чувств от вопля и стона и раскрывал мутный, испуганный взор, вымаливая каплю утешения, вместо которого снова стоны, е nuovi tormenti е nuovi tormentati