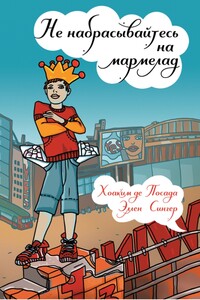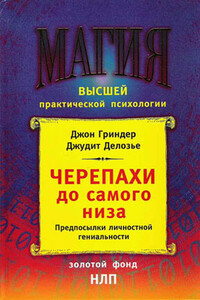Внутренний мир снаружи: Теория объектных отношений и психодрама | страница 11
В начале двадцатых годов, в Вене, Дж. Л. Морено создал свой «Театр спонтанности», который стал предтечей психодрамы. Морено опубликовал отчет об этом проекте, сначала анонимно в 1923 году, а затем под своим именем в Англии (Морено, 1947). Он спроектировал сцену, которая отвечала бы целям его театра. Эта сцена никогда не была построена, и юридические битвы за право авторства стали одним из наиболее громких скандалов, связанных с именем Морено. Любопытные описания этого конфликта можно найти в его биографии, написанной Рене Мариню, и в автобиографии самого Морено (Marineau, 1989:82; Moreno, 1989:77).
В 1925 году Морено покинул Европу и в поисках новой жизни перебрался в Соединенные Штаты. Однако лишь в 1936 году он, наконец, построил сцену для психодрамы в театре, который располагался в его собственном госпитале, Санатории Бэкон Хилл, штат Нью—Йорк. Эта сцена была не столь грандиозна, но более практична, чем предыдущая, времен венских планов. Тем не менее, некоторые из оригинальных находок были спасены и нашли здесь свое воплощение. Театр был сконструирован таким образом, чтобы каждый на равных мог принимать участие в действии (это основной аспект взглядов Морено на театр и терапию), а сцена имела несколько уровней, которые могли быть использованы, помимо прочего, для репрезентации разных состояний из жизни протагониста, как зал суда с местом для судьи (верхний уровень), а также для изображения Небес и Преисподней.
Мои психодраматические «театры» (или площадки) всегда были более земными, без роскоши стационарной многоярусной сцены. Обычно моя работа происходила в образовательных учреждениях, в комнатах, заставленных обыкновенной мебелью, или в обстановке, оставшейся после больничного обеда. Группа, описанная в этой книге, собиралась в моем офисе, который располагался в одной из детских клиник Лондона. Эта комната имела свои характерные особенности и, несмотря на солидность и викторианский стиль, почти никогда не использовалась как театральное помещение, за исключением разве что психодраматических сессий. Тогда безопасная «клиническая сущность» комнаты преобразовывалась тем волшебным процессом, который совершался в ее четырех стенах. То, что создавалось здесь с помощью стульев, деревянных табуреток и кафедры, было просто восхитительно. Даже на Небеса можно было попасть, для этого требовалось лишь встать на перевернутый ящик. Магия творческого процесса, захватывавшего группу, создавала здесь настоящий «театр», в котором и разворачивалось действие.