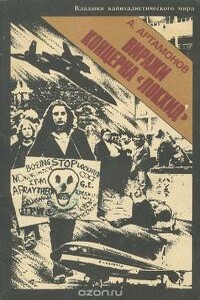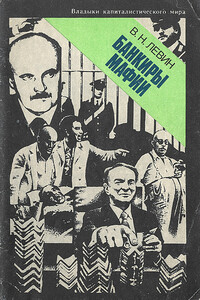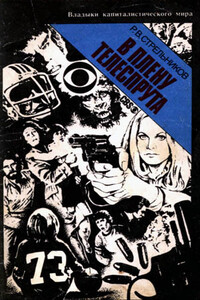Рыцари «черного золота» | страница 9
Никакая другая монополия не привязана в большей степени к одному району, конкретнее к Среднему Востоку, чем «Бритиш петролеум». В свете этого становится понятным, почему английский империализм проявлял и продолжает проявлять так много забот о своих интересах «к востоку от Суэца». Именно он выступил инициатором вооруженной агрессии против Египта в период национализации Суэцкого канала, вдохновлял военную интервенцию на Ближнем Востоке в 1958 году после свержения иракским народом продажного королевского режима. Он практически поддержал израильскую агрессию против арабских стран летом 1967 года, регулярно провоцирует конфликты между средневосточными странами.
Действуя более полувека на территории Среднего Востока, «Бритиш петролеум» ничего не сделала для подлинного экономического прогресса этого района. История арабских стран и Ирана, более древняя, чем история Англии, а также большой вклад средневосточных народов в человеческую цивилизацию были принесены английскими империалистами в жертву духу наживы. «Слаборазвитый богач!» — бросает в адрес Среднего Востока ведущий журнал английских капиталистов «Экономист».
В своем обширном обзоре проблем Среднего Востока, опубликованном летом 1965 года, «Экономист» открыто говорит об очагах ужасающей нищеты в этом районе, о неграмотности подавляющей массы населения, о коррупции в правящих кругах ряда стран, о крайне неравномерном распределении доходов от нефти между странами и в пределах одной страны. Более или менее объективному наблюдателю эти верные детали помогли бы сделать еще убедительней ту очевидную истину, что экономическая и культурная отсталость средневосточных стран — плод многолетнего господства здесь монополий США и Англии.
Но печатный орган лондонского Сити с помощью верных красок хотел бы нарисовать совсем иную картину, а именно — создать впечатление, будто в отсталости Среднего Востока повинны сами арабы и иранцы. Оказывается, все дело в том, что правящие круги здесь слишком консервативны («старомодная бюрократия, которая боится изменений»), что местная буржуазия недееспособна и по-восточному упряма («удивительно упорное нежелание производить капиталовложения») и что ее дерзания неэнергичны и легковесны («большинство попыток добиться коммерческих и финансовых успехов носят любительский характер») и т. д.
Но кому не известно, что в 1951 году правительство Мосаддыка в Иране, горячо поддерживаемое национальной буржуазией и широкими массами народа, не побоялось осуществить решительные изменения, национализировав имущество иностранных королей нефти. Сам «Экономист» вспоминает об этом, но совсем по другому поводу — чтобы лишний раз повторить версию, согласно которой Иран якобы по собственной вине потерял тогда высокие темпы роста его нефтедобычи. Но разве не англо-американские монополии объявили тогда иранскую нефть «краденой» и пригрозили преследовать в судебном порядке всех, кто осмелится ее купить? А ведь это привело к падению добычи и экспорта иранской нефти, вызвало в стране серьезный финансовый кризис и облегчило реставрацию господства здесь тех же монополий. Но об этом «Экономист» умалчивает.