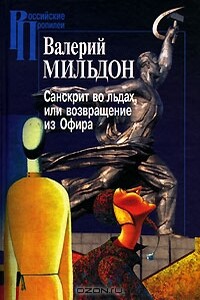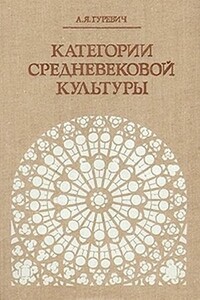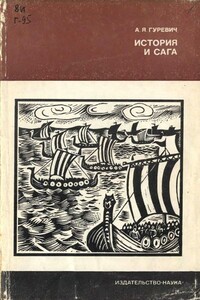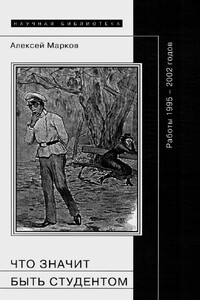Индивид и социум на средневековом Западе | страница 196
В какой мере эти сочинения позволяют приблизиться к пониманию их авторов как личностей? Нелегко ответить на этот вопрос. Дело в том, что в средневековой словесности между автором, заявляющим о своей искренности, готовности исповедаться и намерении ввести читателя в собственный внутренний мир, с одной стороны, и его сочинением – с другой, неизменно стоит «экран риторики». Литературная техника, казалось бы, призванная раскрыть мысли и чувства автора, представляет собой вместе с тем средостение, скрывающее истинные побуждения и характер автора. Общие места, клише, цитаты из «авторитетов», традиционные обороты, формулы смирения и покаяния и другие риторические приемы – своего рода «защитный механизм», не позволяющий увидеть подлинную человеческую личность и ее глубинные мотивации[236]. Так, например, обстояло дело с Веронским епископом Ратхерием (около 890–974). Перу этого высокообразованного церковного деятеля, жизнь которого была полна превратностей, принадлежат несколько произведений исповедального и покаянного жанра. И тем не менее их анализ не дает возможности приблизиться к его индивидуальности, скрывающейся под покровом литературных форм. Разумеется, Ратхерий – предельный случай, но такой случай, в котором, по-видимому, обнаруживается общее правило.
Для того чтобы выразить собственные чувства или изобразить пережитую им конкретную жизненную ситуацию, автор прибегает к самоуподоблению персонажам библейской, христианской или античной древности, причем это самоуподобление представляет собой не простое сравнение, но нечто более значимое и существенное: он идентифицирует свое Я с предметом сравнения, растворяя себя в этом образце. Пытаясь воссоздать собственный характер из «кусков и осколков авторитетов», субъект «вспоминает себя в другом»[237].
Другая черта, характеризующая «автобиографические» попытки авторов указанного времени, – переживаемые ими видения во сне или наяву. В этих видениях опыт действительной жизни получает новую опору и существенно обогащается. Ведь для того чтобы удостоиться чудесного видения, индивид должен был быть предрасположен к подобного рода встречам с представителями мира иного, с божеством, святыми или демонами. Эти встречи оказываются наиболее существенными моментами биографий визионеров, чреватыми глубокими последствиями.
Но нельзя не заметить, что, как правило, визионер выступает в записи о его чудесных встречах с потусторонним не как индивидуальность – в рассказе о видении обычно сообщаются лишь имя лица, его удостоившегося, его социальный статус, время и место сверхъестественного происшествия. О личных переживаниях визионера сообщается лишь глухо, либо о них вовсе ничего не говорится. Известным исключением явились рассказы о видениях немецкого монаха XI века Отлоха из Санкт-Эммерама (подробнее см. о нем ниже).