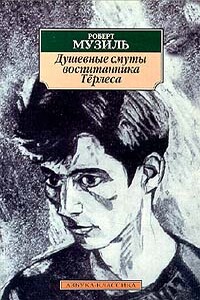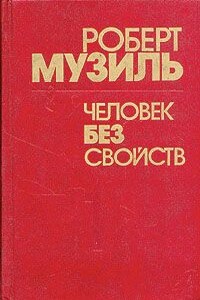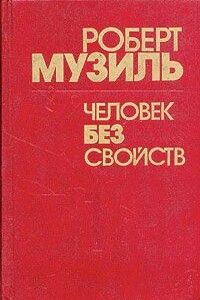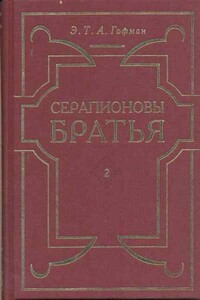Эссе | страница 54
Я хотел бы закончить не общими словами, а примером праформ литературы {Я обязан им проф. Э. М. фон Хорнбостелю. (Примеч. Музиля).}, примером весьма знаменательным. Из сравнения архаических гимнов и ритуалов с примитивными стало весьма очевидно, что с правремен такие основные особенности нашей лирики, как манера делить стихотворение на строфы и строчки, как симметрическое построение - параллелизация в том виде, в каком она и поныне выражается в рефрене и рифме, - как употребление повтора и даже плеоназма в качестве возбуждающего средства, как вкрапление бессмысленных (то есть таинственных, волшебных) слов, слогов и гласных рядов и, наконец, как свойство частного, предложения и части предложения, имеют значение не в себе и для себя, а лишь благодаря своему месту в целом стихотворении. (Зеркально отразилось даже щекотливое значение оригинальности, ибо архаические песнопения и танцы принадлежали зачастую отдельному человеку или общности, оберегались как тайна и дорого продавались!) Эти древние танцевальные песнопения были, однако, руководствами для поддержания хода природных событий и воздействия на богов, то есть они говорили о том, что следовало сделать для этой цели, а форма их в точной последовательности определяла то, как это следовало сделать, она задавалась протеканием события, которое было их содержанием; как известно, погрешностей в форме примитивные народы и поныне боязливо избегают из-за возможных дурных последствий. Этот пример вместе с его кратко воспроизведенным объяснением показывает, что научные исследования первоначального состояния искусства приводят к результатам совершенно родственным тем, которые независимо получены из рассмотрения нынешнего состояния искусства, но польза сравнения в том, что оно наглядно, нагляднее, чем литературный анализ, показывает сущностную связь между формой и содержанием, при которой все "как" обозначают одно "что". Процессом, направленным на "изготовление", "навораживание образца", а не на перепев жизни или взглядов на нее, куда лучше выражаемых без помощи этого процесса, является литература еще и поныне. Но в то время как из первоначального всеобщего "заклинания дождя" с течением тысячелетий сторона "что" развилась до науки и техники и давно произвела свое собственное "как-это-следует-делать", из стороны "как", хотя и изменившей свой смысл и удалившейся от исходной магии, нового четкого "что" не возникло. То, что следует делать литературе, есть все еще более или менее древнее "как-она-должна-была-это-делать"; и даже если в частном это "как", возможно, и будет связано со всевозможными изменениями целей, в задачу литературного искусства по-прежнему входят лишь поиски современной формы утраченного со времен Орфея убеждения, что искусство волшебным образом влияет на мир.