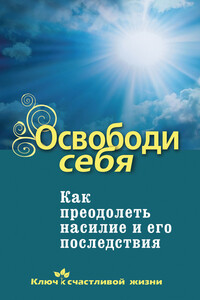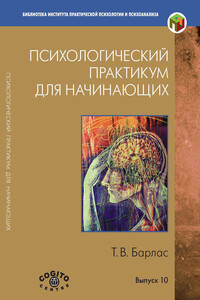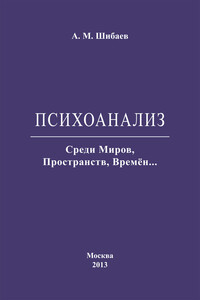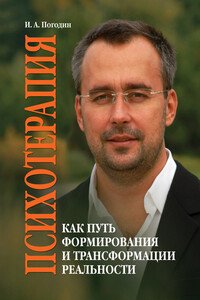Тревожность у детей | страница 35
Но ребенок не способен определить объект, он чувствует опасность и реагирует организмически, при этом и его восприятие, и реакции представляют собой скорее биологические, чем психологические процессы. Характерное для его состояния тревоги напряжение имеет недифференцированный характер. Детские представления – это страх и тревога или генерализованные проявления инстинкта самосохранения – психического явления, отличного от тревоги. Позднее состояние тревоги – это страх, но не перед настоящей угрозой, а перед хранящейся в памяти ситуацией реальной опасности, имевшей место в детстве. Поскольку эта ситуация не была опредмечена, создается впечатление, что тревога не имеет объекта, являясь беспредметной.
Инфантильный характер происхождения тревоги объясняет источник чувства беспомощности, свойственного аффекту тревоги. Дальнейшее рассмотрение вопроса о том, «что именно подвергается угрозе», показывает, что это не только физическая целостность субъекта, но и такие психологические факторы, как Эго, стремление к свободе, к самореализации. Существование ценностей человека делает понятным, почему тревога возникает рефлекторно, позднее же она приобретает функцию упреждения (сигнала) и позволяет мобилизовать Эго-ресурсы для предотвращения опасности.
Тревога также возникает в случае ослабления механизмов защиты или при устранении невротического симптома. В связи с этим возникает предположение о существовании тревоги в латентной форме, так как если она является аффектом, то «бессознательная» или «свободно плавающая» тревога может считаться потенциальным образованием или некой «предрасположенностью».
Страх является адекватной реакцией в ситуации очевидной сиюминутной опасности, а неадекватная реакция в этом случае обусловливает возникновение тревоги.
Поскольку человек не знает действительного источника тревоги, то фиксация страхов и наполнение соответствующим содержанием многочисленных объектов представляет собой попытку человека определить, чего он боится, и научиться управлять ситуацией. Потребность в безопасности, означающая стремление избежать состояния беспомощности при столкновении с опасностью, усиливают эту тенденцию к конкретизации тревоги. Совершенно очевидно, что невозможно провести четкую границу между страхом и тревогой.
Когда мы считаем, что вытесняем тревогу, на самом деле мы вытесняем представление об угрозе, то есть о том, что угрожает.
Представление о матери как об источнике опасности – вот что не допускается в сознание. Нам представляется, во-первых, что ребенок витально зависим от своей матери и верит в ее поддержку. Мысль о том, что человек, давший жизнь, враждебно агрессивен – невыносима; само существование подобной предрасположенности в психике матери ведет к отрицанию не только ребенка как ценности, но и его права на существование. У всех нас мысль о материнской враждебности вызывает ощущение чего-то противоестественного. Даже когда человек осуждает свою мать, он не расстается со своей верой в ее доброе отношение к нему. Поскольку материнская враждебность сосуществует с искренней материнской заботой, ребенок испытывает замешательство и чувство вины перед своими мыслями.