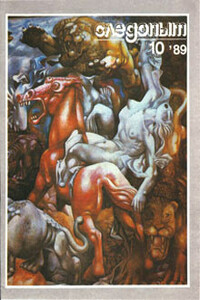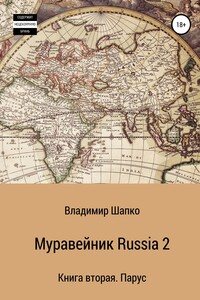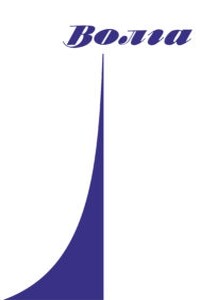Московский рай | страница 77
…В один из своих приездов из Тёплой Горы бабушка привезла внукам взрослый велосипед. Мужской, довоенного выпуска, но с ободами колёс никелированными, прозрачными как озёра. Велосипед остался памятью о сыне, который погиб в самом начале войны. Вот так, вроде бы подарок теперь от него. Племянникам.
Сняли седло, навернули на раму оторванный от старой телогрейки рукав, и девятилетняя Жанка ехала, осторожно крутя педали, облепленная бегущими ребятишками, к которым всегда вязался какой-нибудь приблудный долган, орущий больше всех, вообще неизвестно откуда взявшийся. «Ой, держите меня! – пищала Жанка. – Ой, не отпускайте!» И падала. Как плаха. Придавив вдобавок какого-нибудь засуетившегося пацанёнка.
Толком кататься она так и не научилась. Генке было рановато на этот велосипед. Однако Генка не был бы Генкой, если бы не взобрался на него. Сопровождаемый тем же бегущим кагалом (и примкнувший долган лет четырнадцати бежал тут же), командовал: «Бросай!» Его бросали. Он даже не вилял, как Жанка, а сразу мчался вбок. Пикировал в мазанку. Достав из-под велосипеда храбреца, ребятишки его снова подсаживали и бежали. (Долган болтался над всеми, будто утаскивал всю кучу, неутомимый, как флаг.) «Бросай!» – командовал Генка. Почему-то в одном и том же месте улицы. И велосипед мчался к мазанке, падал там вместе с лётчиком. Долган показывал, как надо. Наяривал педалями как сумасшедший рыболов. Все бежали за ним. Боялись, что удерёт. Но долган – заворачивал. И, пригнувшийся, мчался назад: засученные ноги работали выше головы! Через неделю Генка поехал. Свободно вихлялся на рукаве телогрейки. Или повихляется, повихляется, как следует разгонит машину – и парит на педалях. Как сокол. Стал катать даже Мойшика. На раме. И две женщины, прервавшись поносить Почекину, с умилением смотрели. Бабушка поворачивалась к Жанке: мол, что же ты? Почти в два раза младше тебя? «Вот если бы дамский…» – куксила губы надменная Жанка. Глаза её были как чеснок. Как уко́сые доли чеснока.
И бабушка, точно впервые увидев их такими, разглядев их только сейчас – как пуганая-ворона-после-куста – почему-то обмирала. Грех это думать, грех, но распутные у девчонки глаза. Распутные. Как и у матери. Ведь сразу видно. Неужели тоже свихнётся? Господи, защити её! Помилуй! Не допусти!
Женщина гнала худые мысли, гнала. Лицо её вдруг смешалось. Как сено. Стало неузнаваемым. «Ты чего, бабушка?» – растягивала в сторону губу Жанка. Женщина начинала горько плакать. Рыдать. Фрида гладила на своей большой груди прыгающую головку, глаза её тоже наливались слезами. А Жанка топталась, хмурилась, ничего не могла понять. И с намотавшими грязь колёсами, как с замороченными солнцами, проносился, прокатывался велосипед с вопящими Мойшиком и Генкой…