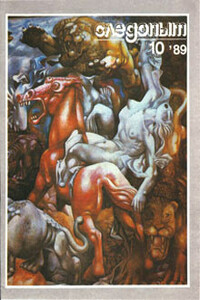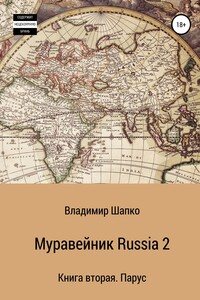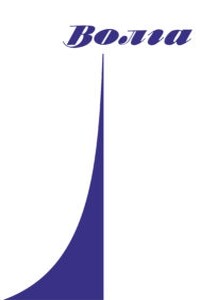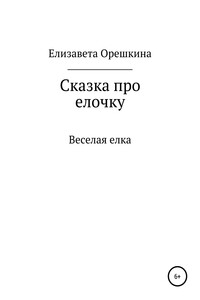Московский рай | страница 67
Янкель откинул занавеску, посмотрел. «Э-э! Такие же идиоты!» Хотел было задёрнуть матерьял, но увидел поигрывающую ножкой Почекину. Соседку. Из мазанки через дорогу. Хромоножку. Которая вела под руку очередного офицера. Офицер шёл в здоровущих галифе. Как будто в двух трёхвёдерных самоварах-самопалах. Янкель отвешивал челюсть. Маленькая Почекина суетливо заводила самовары в мазанку, и сразу же оттуда выскакивали на улицу её малолетние дети, Генка и Жанка. Начинали незло шпынять друг дружку, для порядку драться. Зачем-то перелезали через штакетник к Агафоновой. Стояли в яблоневом облетевшем саду, как в коричневом заговенье. Мать что-то орала им, потом выкидывала две телогрейки. Снова лезли через штакетник… «Чего к ней липнут эти офицеры! И что находят в ней! Не пойму!» – зло удивлялась Фрида. «Червивое – самое вкусное яблоко, уважаемая!» – поворачивал к ней лицо супруг. «Конечно, когда кое-кто меняет женщин как перчатки, тогда – конечно!» Янкель взмётывал над головой фейерверк рук. Безгласный. Как бы говоря этим фейерверком: чьто тут говорить! Господи! Дура и не лечится!
Между тем Фрида уже застёгивала на Мойшике пальтишко, на голову прилаживала великую кепку, и через минуту муж и жена смотрели из разных окон, как их сын стоит на улице перед такими же маленькими, как сам, двумя детьми, и протягивает им что-то в кулачке. Свой секрет. Дети разглядывают то ли пуговицу, то ли копейку. А над ними, высоко над дорогой, чёрными лоскутами висят три вороны. Мёрзнут на осеннем ветру, осторожно поныривают. Потом по очереди начинают упадать на стороны, вниз, чтобы спрятаться где-то во дворах, пропасть…
Дети бегут через дорогу к саду Агафоновой. Бегают меж яблонь, ищут в ворохах листьев что-то. На крыльцо выходит сама Агафониха, упирает руки в бока. Но словно забыв, что ребятишек до́лжно из сада гнать – стоит и смотрит. А те уже играть принялись – назад из-под расставленных ножонок летят залпы жёлтых листьев. И пуще всех старается Мойшик…
Она согласилась встретиться с ним на немножко перед самой работой. Она пришла на короткое это свидание в парике. В громадном рыжем парике. О, вы неподражаемы! Как будто в содранном с соперницы победном скальпе. О-о! С руками и ногами длинными, открытыми, как тощий членистый бамбук. О-о! Она была библиотекарем. Она стояла застенчиво. Осклабившись. Со ртом, полным длинных белых зубов. Как касса! О, чудная! Абрамишин подхватил. На полторы головы ниже Дамы. Сделал с ней стремительный тренировочный кружок на тротуаре. И – повёл. Повёл к чудной совместной жизни. В потоках солнца распахивал рукой. Показывал ей перспективу. И сразу же вышло вдали и распустилось облако. Прекрасное, как хризантема. О-о! Абрамишин готов был сдёрнуть его с неба и преподнести Даме. Подлаживаясь под неё, перебивая ногу, он подпрыгивал, подпрыгивал как Арлекино. Не обращал внимания на пешеходов. На их улыбки. На их оборачивающиеся лица. Завидуют, завидуют! Они мне завидуют! Какое счастье! Прижимался к Даме. Стискивал её бамбуковую руку. О, милая! О! Одну минуту. Сейчас. Он отбежал. Он прибежал. Он протянул мороженое Даме церемонно. Как винтоногий чиновник из околотка, резко сделав задом назад. Ой, что вы! – смеялась, как каркала, дама. – Кар-кар! Зачем, кар-гар, же! Спасибо, кар-гыр! Дама, как автомат, шла. Ничего не соображала. Судорожно клацала зубами. Белые куски мороженого падали, как пена у лошади. Ой, что я делаю! Кар-кар! На платье, кар-гар, же! Ой, гыр-кыр, извините! Абрамишин смеялся. Абрамишин не вмещал счастья. Вместе с ним смеялись на деревьях листочки. Она же примерно одних со мной лет. Лет тридцати семи, тридцати девяти. Она же вся в аллергии. Господи! Ведь это то, что нужно! Неврозы, неврозы у неё. Закостенелые неврозы! Вегетососудистая плюс спазм дыхательных путей, выражающийся в горловом скрежете. Выражающийся в карканье. Икании и заикании. Во время смеха. Кар-кыр! Гар-гыр! Вот как сейчас она смеётся. Кар-кар-гыр-кыр! Это же невозможно представить, что будет в постели. О-о! И всё это будет через два дня! О-о! Как вместить это всё в голову! Как удержать!