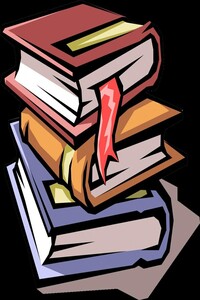Повседневная жизнь французов при Наполеоне | страница 29
Артур Юнг, агроном и экономист, автор многих трудов, среди которых — «Путешествие по Франции», два тома которого вышли в 1792–1794 годах, писал: «Разве может процветать страна, главной заботой которой является стремление экономить на употреблении готовых товаров и изделий мануфактур? Женщины, собирающие в лесах в передники траву для своих коров, — вот признак нищеты».
«Проезжая Пейрак, мы встретили здесь массу нищих… У всех крестьянок, женщин и девушек, нет ни чулок, ни башмаков, а у землепашцев во время работы нет на ногах ни деревянной, ни какой-то другой обуви. Эта нужда подрывает в корне народное благосостояние».
«Я был в Сен-Жерменском аббатстве… Это самое богатое аббатство во Франции, аббат получает 300 тысяч ливров дохода! Я теряю терпение, когда вижу подобное распределение таких крупных доходов, это годится для X, но не для XVIII века. Сколько ферм можно было бы основать на четвертую часть этого дохода!!! Какую репу, капусту, картофель, клевер, каких баранов и какую шерсть можно было бы получить! Разве они не лучше, чем толстый боров — священник?»
«Я ищу хороших фермеров, а встречаю лишь монахов и государственные тюрьмы!»
Неужели все так плохо? Ведь и до революции были сельскохозяйственные общества, члены которых живо интересовались техническими и культурными новшествами — мы говорим не только о прогрессивных дворянах и буржуа, но и о некоторых крестьянах. Увы, это касалось лишь незначительной части сельских хозяев.
У каждого края — своя специализация: чего-то много, чего-то не хватает, а то и нет вовсе. «Бедный Артур Юнг! — восклицает историк Фернан Бродель[102]. — Он так огорчался, что не может найти чашку молока между Тулоном и Канном!»
Во время путешествия Юнга скотоводство было не самым прибыльным делом. Один документ так описывал экономику откорма: «Купив [быка] за 200 ливров, его продают после откорма за 300, [но] барыш составляет от 60 до 70 ливров».
Французские провинции не похожи друг на друга — и природой, и направлением хозяйства, и характером людей. «Поясню читателю, — говорит Стендаль, уроженец Гренобля, — что в Дофине можно встретить свою особую манеру чувствовать — остро, упорно, сознательно, которой я не встречал ни в каких других краях. Для внимательного наблюдателя музыка, пейзажи, романы должны меняться с каждыми тремя градусами географической широты. Например, у Баланса на Роне кончается провансальский характер и начинается характер бургундский, который между Дижоном и Труа сменяется парижским — вежливым, остроумным, поверхностным, — словом, уделяющим много внимания другим.