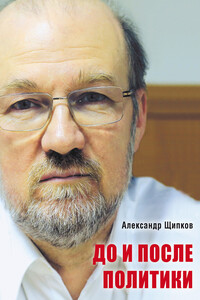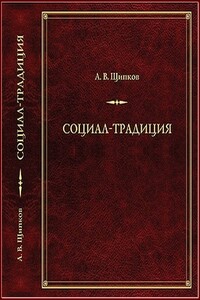Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики | страница 35
Сегодня необходимо по-новому обозначить границы понятия «традиция» в условиях новой общественной модели. Но приверженцы «патриархальности», как и их оппоненты-модернизаторы, могут быть спокойны. Речь идёт не о возвращении к обычаям и институтам прошлого, не об исторически конкретной «самодержавной традиции», будь то реставрация монархии или проект «СССР-2». Речь идёт о куда более тонком и сложном процессе – о перезагрузке механизмов преемственности в культуре и обществе. Такая перезагрузка использует традицию в качестве точки опоры нового движения из прошлого в будущее, для корректировки исторического курса. Это не та или другая традиция, а новый тип общественного знания и общественной коммуникации, подчинённых принципам функционирования традиции.
Традиция, преемственность – то, в чём нуждается общественное большинство. Причём главная цель – поиск точки сборки традиции и её самовоспроизводство, а не собирание тех или иных образцов исторического антиквариата.
При этом мы, конечно, считаем своим долгом указать на те моменты в истории России, когда традиция прерывалась. Эти точки на временной шкале необходимо обозначить. Например, нельзя умолчать об опричнине Ивана Грозного, от которой он сам же впоследствии с ужасом отказался. Благое намерение – справедливое распределение земли между боярами – проводилось негодными средствами, руками людей без морали. Одна несправедливость породила другую. В итоге «опричнина» как социальный феномен (речь не только об исторически локальном явлении) стала постоянным явлением русской жизни. Чекистские чистки, нефтяная рента, правовой и экономический беспредел – в широком смысле всё та же опричнина.
Ещё более серьёзный и, пожалуй, ключевой для России момент срыва – это церковная «реформа» XVII века. Церковный Раскол был инициирован сверху светской властью и рассёк тело Церкви. Народная теократия и народная Церковь стали невозможны. А вне этого условия невозможно и нормальное формирование христианской нации.
После так называемого церковного Раскола мы в конечном счёте получили синодальную «государственную» церковь. Это замедлило формирование народной религиозности, на основании которой только и складывается нация (более короткий и дешёвый путь – этнонационализм, но он не совместим с российской христианской традицией). В итоге Раскол XVII века в известном смысле предопределил события 1917 года. Ни церковь, ни крестьянская масса, ни дворянская элита не смогли противостоять катастрофе, которая отбросила Россию далеко назад, подорвала её духовные и социальные корни. 1917 год – кардинальный слом всей общественной парадигмы России. Очевидное продолжение этого слома (то есть ещё один разрыв, в принципе невосполнимый) – это уничтожение крестьянства, а с ним и русского общинного сознания. Предвидя некоторые вопросы, оговорюсь: судьба других «старорежимных» сословий тоже может и должна быть предметом разговора, но не в этой статье.