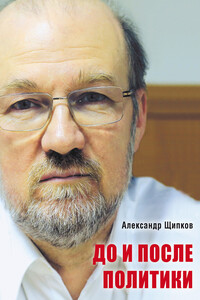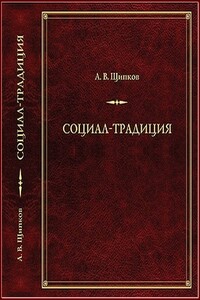Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики | страница 28
Это напрямую касается и сферы общественных наук. В западном научном сообществе «поворот к традиции» уже осознан и в качестве тренда набирает силу. В России по традиции немалая часть исследователей привержена теоретическим схемам дня вчерашнего.
Так, например, А. С. Ахиезер, С. Г. Кирдина и др., представляя уже устаревший взгляд на состояние российского общества, доказывают, что в нём имеет место «раскол целостности», заключающийся в «борьбе противоположных идеалов – вечевого (соборного, либерального) и авторитарного (абсолютистского, тоталитарного)» [12, c. 52].
Раскол в обществе, бесспорно, существует, хотя и не симметричный. Но обозначение противостоящих друг другу полюсов некорректно и внутренне противоречиво. Так, соборность (принцип согласия социального большинства) не имеет ничего общего с либеральным принципом делегирования реальной власти борющимся между собой элитам. Политическая конкуренция меньшинств и демократическое большинство – явно не одно и то же. Вспомним такую нашумевшую, но показательную историю, как швейцарское голосование по строительству минаретов. Решение большинства подверглось нападкам как «архаичная, незрелая и неэффективная демократия».
Умеренная авторитарность внутренней политики (но никак не тоталитаризм) в странах периферии – в частности, в России – служит одним из условий движения такой страны в сторону европейского пространства, и напротив, либеральный элитаризм, как правило, отбрасывает страну в азиатский «контекст». Очень ярко эта диалектическая связь проявилась в процессе украинского кризиса 2014 года.
Приведённое выше высказывание – результат архаичности и неадекватности устаревшего категориального аппарата либеральной политологии. Этот теоретический реликт, сохранившийся со времён холодной войны, давно уже не в состоянии «схватывать» реалии современной политики, что в итоге ведёт к теоретическому коллапсу: вместо описания реальной политики мы всё чаще наблюдаем примеры квазинаучного мифотворчества.
Итак, включение исторического ресурса традиции в поле общественных исследований и в сценарий общественного развития (а эти процессы, разумеется, взаимосвязаны) – дело времени. Вопрос лишь в том, в каком виде и каким образом традиция будет воспринята и использована. А это зависит от самого подхода к традиции. Надо понимать, что формы традиционализма могут быть разными. Если говорить о ситуации в Западной Европе, то, вероятно, правящие элиты попытаются взять из традиции те механизмы, которые позволяют сохранить мировое социальное неравенство на новых основаниях. Де-факто это будет возврат к тому, что либеральная теория раньше называла «отсталостью старого режима».