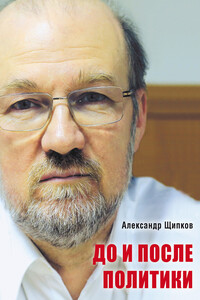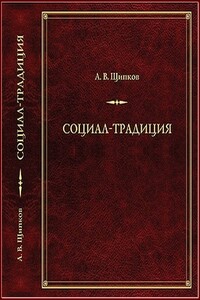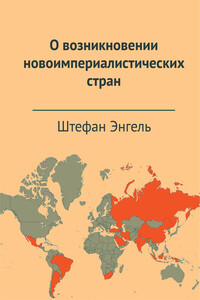Традиционализм, либерализм и неонацизм в пространстве актуальной политики | страница 21
Но в основе описываемой нами политической кухни лежало не только полное табуирование нежелательных понятий. Во многих случаях происходила подмена неудобного понятия другим – удобным. И меняющим смысловые акценты.
Сегодня эта практика жива как никогда. Возьмём для примера понятие «модернизация», на которое возник спрос после распада социалистического лагеря. Этот термин был адресован странам бывшего советского блока и приглашал их занять место в мировом разделении труда, будучи по сути мягким и политкорректным синонимом колониальной зависимости. Зато название было выбрано весомое, почти как «перестройка и ускорение» в эру Михаила Горбачёва. Понятие «модернизация» широко используется в России и сегодня. Особенно много внимания уделяют ему экономисты. При этом речь идёт о финансовой зависимости страны от мировых рынков капитала и внешних кредитов – на фоне их регулярного субсидирования через Резервный фонд. А также – шире – о сохранении невыгодного места России в мировом разделении труда.
События 1989–1991 гг. обогатили новейший словарь либерального политикума. В активный запас политического языка помимо «модернизации» вводится целая обойма новых понятий и концептов, ранее не столь актуальных. Ещё одно расхожее выражение – «конец истории». Оно стало популярным благодаря философу, политологу и политическому экономисту Френсису Фукуяме и его книге «Конец истории и последний человек» [1]. Выражение содержало в себе недвусмысленный месседж, весьма радикальный по содержанию. Это было не просто подведение черты под «двуполярной» эпохой и так называемой модой на марксизм. Речь шла о том, что мировой политике вообще следует отказаться от историзма и очистить от исторических смыслов политический язык. Отказаться – в пользу чего? В пользу новой политической метафизики, в центре которой оказалось понятие общемирового либерального консенсуса. Такова политико-лингвистическая реальность. Ну, а как же реальная политика? Разумеется, идея оказалась утопической. «Консенсус» не сложился. Часть мира, не входившая в среду обитания «золотого миллиарда», не приняла новые порядки – ужесточение экономической политики, курс на вестернизацию. Кое-где возникли попытки занять позицию отрицания – вспомним саддамовский Ирак. Тогда, судя по всему, сторонники политико-лингвистического консенсуса решили, что время лингвистики прошло, и пришёл черёд полицейских мер.
Эти меры подробно описаны политологами и военными аналитиками. Нас же интересует лингвополитика сама по себе: нам важно понять, как ужесточение мирового политического курса – «закручивание гаек» в мировой политике – вызывает смену ключевых понятий политического языка. Одним из таких знаковых моментов перехода следует считать ситуацию, когда на место фукуямовской идеи «конца истории» приходит концепция «конфликта цивилизаций». Этим понятием мы обязаны американскому социологу и политологу Сэмюэлю Хантингтону [2]. Такая замена или подмена терминов указывала на готовность мировых элит к войне между Севером и Югом. Именно с этой целью провозглашалась кардинальная смена политического языка. Наряду с терминами глобальной экономики в мировой обиход возвращался язык культурно-цивилизационных различий. В том, что это именно возврат к прошлому или, точнее, его ремейк, нет никаких сомнений. И неважно, кто провозгласил этот путь первым, – профессор Хантингтон или иранские аятоллы, исповедовавшие зеркальную идею джихада, борьбы с неверными. Хотя кто здесь агрессор, а кто жертва, можно понять исходя из разницы весовых категорий двух конфликтующих субъектов.