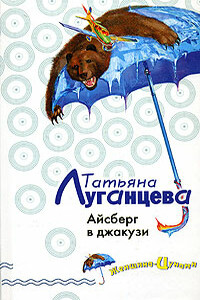Больше не приходи | страница 79
Между тем обожание Кузнецовым сына старательно культивировалось. Выражаться оно, по разумению Тамары, должно было (и выражалось) в серьезных подарках к праздникам и именинам, в финансировании дорогих спортивных секций и репетиторов, и даже парикмахера. Отдельным родом обожания считались Егоровы каникулы. Тут мало было афонинского рая, требовалась еще и оплата каникулярных вояжей. Егор уже объездил полмира, посетил Диснейленд (настоящий, американский), нежился в Адриатическом море, осматривал красоты Италии и колол орехи фальшивым обломком Парфенона.
Впрочем, Тамара заботилась и о душевном контакте отца и сына. Принаряженный Егор посылался матерью на все многочисленные кузнецовские вернисажи и умел занять рядом с отцом подобающее место, чаруя гостей галстуком в полосочку и наивными вопросами. Когда Тамаре нужно было, чтобы Егор не болтался неизвестно где, пока она занята своими делами (а такое бывало довольно часто), она подбрасывала его к отцу в мастерскую. Ей казалось, что постоянно мозоля глаза Кузнецову, Егор сделается для него привычным и необходимым. Мальчик в эту пору должен был начинать сам просить у отца деньги и помощь. Именно в мастерской Егор выучился сидеть долго, глядя остановившимися глазами на какой-нибудь случайный предмет. Чаще всего он смотрел на крышу дома на противоположной стороне улицы, видную через громадное, сизоватое от пыли окно. Там в определенный час ослепительно загоралось закатом чердачное окошечко. Иногда Егору позволялось порыться в ящиках стола, порисовать углем или сангиной на громадных листах оберточной бумаги. Рисовал Егор плохо, но очень любил эту бумагу и долго рассматривал какие-то черные пятнышки и древесные занозы, которыми она пестрела. Рождалась ли от всего того предполагаемая Тамарой душевная близость? Если б в один прекрасный день Егор перестал появляться в мастерской, Кузнецов заметил бы это так же мало, как мало замечал его присутствие (последнее обнаруживалось, как правило, когда Егор что-нибудь портил или разбивал). Например, он совсем не заметил тринадцатилетнего сына, когда писал Инну на сером фоне с фаянсовой синей вазой у ног, а тот испытал род жгучего потрясения, потому что впервые видел живую обнаженную женщину (альбомов-то с репродукциями старых мастеров он в своем углу пересмотрел бессчетно). Теперешнему Егору тот полуобморочный восторг представлялся даже забавным, но вовсе отделаться от Инны, от сладкого ужаса перед нею он так и не смог.