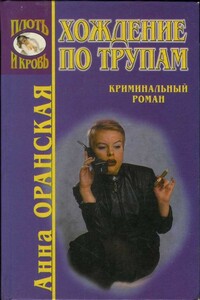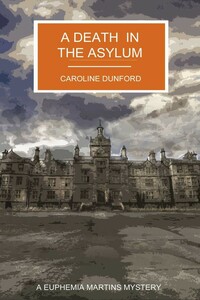Больше не приходи | страница 70
Тот последний перед его первым отпуском вечер выдался сырым, прохладным, пах мертвой листвой. Но Самоваров был молод, удачлив, его любила красивая девушка Наташа. Такому ничто не могло испортить настроения.
На Нижнем рынке засветло началась какая-то большая драка. Туда выехало практически все отделение. Самоваров, уже получивший отпускные и сдавший пистолет, с крыльца увидел, как в машину садится Генка Самойлов, задолжавший ему четвертак. Будто не мог он уйти в отпуск без этих дурацких двадцати пяти рублей! Самоваров влез в ту роковую машину, рассудив, что от рынка как раз недалеко до его дома. Дрались, как оказалось, быки ныне покойных Рытого и Коти (да и те, что тогда дрались, сегодня через одного, должно быть, жарятся на адских сковородках). Сцепились из-за сущей ерунды, чуть ли не из-за палатки минеральных вод. Но бандитский принцип дороже денег. Котины стреляли. Они всегда стреляли, причем расчет был, как правило, не уложить противника, а пугнуть. Когда прямо в гущу дерущихся въехал желто-синий «уазик», они бросились врассыпную. И Самоваров вместо того, чтобы пойти домой или ждать Генку с проклятущим четвертным в машине, тоже глупо погнался за каким-то низкорослым и рыжеголовым идиотом. Это рыжее, недочеловечье, будто гномье лицо он и сегодня видел перед собой, стоило вспомнить тот вечер. Лицо и растопыренные широкие плечи под желтой кожаной курткой.
Зачем он бежал за рыжим мерзавцем так упорно по пустым дворам, по разбитым скользким тротуарам, по засыпанному листвой скверу? Затем, что чувствовал: рыжий не петляет, рыжий перепуган и бежит к норе. Тут героический мент Самоваров и настигнет врага в его логове! Героический мент легко (сколько перебегано в детстве!) мчался по крыше сарая безбоязненно — раз по крыше рыжий пробежал, значит, сарай и его выдержит! Двухэтажные кривенькие дома, трансформаторная будка, жидкие клёники. Кажется, улица Серафимовича. Здесь, что ли, логово?
Стреляли снизу. Он был на крыше, уже один среди увядших небес (куда девался рыжий? и как долго стреляют!) Очередь «калашникова» прострочила его наискосок — от левого бедра до правого плеча. Врачи говорили потом, что если бы очередь двигалась не слева направо, а наоборот, справа налево, четвертая пуля пришлась бы прямо в сердце. Повезло.
Он лежал в больнице сначала семь месяцев, потом еще четыре в госпитале, потом… Те три больничных года он вспоминать не любил: бесконечные операции, реабилитации, чуть ли не ежедневные прощания с жизнью, унижение немощью и толпы таких же, как он, несчастных. Исчезали сначала знакомые, потом друзья. Красивая девушка Наташа исчезла в том же сентябре. Она даже в больницу ни разу не пришла, передала через сослуживцев длинное письмо. Прочел его он много позже, к весне. Тогда он только смог самостоятельно читать. Наташа писала, какой это удар для нее, как она не хочет обижать его жалостью, как ему лучше сразу забыть ее, слабую, недостойную, но, увы, такую обычную и земную. Она уверяла, что любит, что плачет (письмо было сухое, бумага гладкая, почерк ровный, хотя и не слишком разборчивый), что она одна будет изживать свое горе, что судьба, возможно… — и т. д. и т. п. Стало быть, исчезло все сразу. Может, терять так сразу всё и легче, но если учесть, что его родители еще шесть лет назад погибли, разбились, возвращаясь с дачи на своем стареньком «москвиче», то к моменту бумажного плача красивой девушки Наташи у Самоварова не осталось никого.