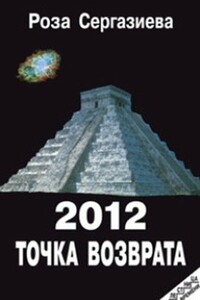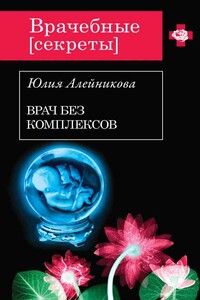Больше не приходи | страница 43
11. Исторический аспект. Покатаев
Нет ничего тоскливее, чем долгий ненастный день в чужом доме среди незнакомых и полузнакомых людей. “Прiемная” померкла в скучной полутьме, старые вещи глядели хмуро. Валька и Егор бесцеремонно скрылись в каких-то своих отдельных апартаментах. Кузнецов снова взялся писать Инну с сиренью.
Часы тянулись еле-еле. Каждая минута была заметна и долго не кончалась. Оксана дулась на Покатаева, Покатаев устал от Оксаны, Валерику и Насте было неловко друг с другом, и они, отвернувшись в разные стороны, рисовали что-то в своих картонных папках. Один Семенов, казалось, не чувствовал себя несчастным и с интересом рассматривал коллекцию кича.
— Удивительный все-таки дом, — изрек он и вспомнил рассказы Инны о здешнем колдовстве.
— Единственный в своем роде, — отозвался Покатаев. — Во всяком случае, девятнадцать лет назад был единственным.
— Мне как раз девятнадцать, — сказала Настя. — А почему он тогда был единственным?
Покатаев раздвинул улыбкой, как ширму, свои смуглые щеки, показал ряд белых правильных зубов.
— Потому, девочка, что в те баснословные времена, каковых вы, конечно, не помните, простым смертным такие усадьбы не полагались. Что же сооружалось за номенклатурными заборами, никого не касалось.
— А ему почему разрешили? — спросила Настя.
— О! — Покатаев поерзал в кресле, устраиваясь в позе рассказчика, завладевшего общим вниманием. — После своих бамовских успехов наш юный и великолепный Кузя искал тему. Он всех уверял, что хочет чего-то красного на зеленом. Или наоборот. Мучиться со всякими красными конями он не стал, а взял и прямиком изобразил… что? Ну конечно, Первое мая! Называлось сие творение “Первый Первомай в селе Горшки”. Всякие там елочки-палочки, березки-осинки убраны кумачом, девки водят хороводы, а с трибуны какой-то хрен в красной рубашке выступает. И все это, прошу заметить, волшебной кистью и на огромном полотне! Даже теперь, кроме как стихами, и не скажешь, так угодил. Успех бешеный. Выставки, пресса, восторг всеобщий! Подоспела какая-то Всесоюзная выставка в Манеже. Повесили там эти “Горшки” на довольно видном месте. Вообразите теперь вернисаж. Стадо черных лимузинов у подъезда, оцепление. Плывет Генсек. Плывет себе, кивает, никуда не вглядывается, даже Налбандяна прокивал, того, говорят, чуть кондратий не хватил от обиды… И тут — “Горшки”. Красное на зеленом такое, что глаза слезятся. Даже Генсека проняло. Остановился: “Кто? Что?” Прочитали ему этикетку. “Большой, — говорит, — талант, с мощной, говорит, силой отстаивает наши гуманс-с-сические идеалы”. Все кругом в переполохе: Генсек в других местах останавливаться был должен! Его ж и вели, куда надо, и авторы нужных полотен в нужных местах уже стоят, переминаются, речи с ответной благодарностью, прозубренные всю ночь, повторяют. А тут какой-то Кузнецов из какого-то, прости, Господи, заштатного Мухосранска! Кузя, кстати, в этот исторический момент сидел себе в Сибири, даже, кажется, здесь, в Афонине, писал своих голых баб и даже по телевизору не удостоился посмотреть немую сцену у “Горшков” и отвисшие вокруг оных челюсти. Что же, постоял, постоял Генсек и дальше поплыл, никуда больше не заглянул и даже бесед заготовленных не провел. Только часто моргал. Должно быть, в глазах мальчики зеленые после кузиной красноты скакали. Потом премии, конечно, звания кому надо дали, такие дела заранее делаются, но и Кузе перепало. Шутка ли, Генсека сразил! “Горшки” — мигом в Третьяковку, за какие-то небывалые деньги. А уж у нас вызывают Кузю в обком и прямо, как в сказке: “Проси, говорят, Кузнецов, чего пожелаешь!” Он: “Дачу хочу!” — «Дачу? У нас в Замурине?» (Номенклатурное было гнездо, да и сейчас губернатор там, говорят, живет). “Нет, говорит, другое местечко присмотрел” Он давно вокруг этой горы ходил. “Валяй”, — говорят. И построил Кузя теремок. Место, конечно, красивое, хотя, на мой вкус, непростительная глушь. Кузя — бирюк, ему нужно логово. Ему и триумфы-то нужны, чтоб только в покое оставили, чтоб только наработаться.