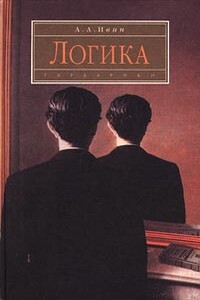Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 75
Антропологическое понимание подчеркивает свободу личности, ее не-предопределенность, а также многообразие людей, важность для каждого из них существования полноправного и полноценного другого. Социальное разнообразие, неоднородность, несовпадение интересов людей рассматриваются не как изъян современного общества, а как его несомненное преимущество. Человек формируется обстоятельствами, но вместе с тем всегда остается свободным, поскольку он сам определяет многие особенности своей жизни. Социологическое истолкование человека как сколка общества на определенном этапе его развития растворяет индивида в обществе, подчиняет его обязательной коллективной судьбе и тем самым во многом лишает его эстетического измерения.
Социологически понимаемый человек всегда проводит ясное различие между подлинными (истинными, естественными) и мнимыми (ложными, искусственными) потребностями. Предполагается, что первые должны удовлетворяться, в то время как наличие вторых говорит об отступлении человека от своего высокого предназначения, от стоящих перед ним грандиозных задач по преобразованию мира и т. п.
В частности, Маркс, разграничивавший истинные и ложные потребности, исходил из социологического понятия «человеческой сущности». Важнейшей целью коммунизма, по Марксу, является осознание истинных человеческих потребностей и их удовлетворение. Это станет возможно только тогда, когда производство будет служить человеку, а капитал перестанет спекулировать на иллюзорных его потребностях. Сам лозунг коммунизма «От каждого – по способностям, каждому – по потребностям» имеет в виду не любые, а исключительно истинные или оправданные потребности человека. Деньги, богатство, роскошь и т. д. – это ложные потребности, навязанные человеку эксплуататорским обществом и извращающие все подлинные человеческие ценности. Странно, что Маркс не относил к ложным потребностям незаинтересованное эстетическое созерцание, не связанное непосредственно с той высокой целью, которую будет ставить перед собой идеальное общество. Причиной являлась, скорее всего сугубо индивидуальная особенность Маркса – его любовь к искусству, и в особенности к поэзии.
В реальном коммунистическом обществе граница между высшими и низшими (естественными и искусственными) потребностями была достаточно отчетливой. Всячески одобрялось чтение, но оно не должно было уводить от коммунистических идеалов и ценностей. В музыке, особенно в легкой, существовали жесткие ограничения. Тщательно отбирались сюжеты опер, проводилась ревизия даже классического наследия. В живописи доминировали жанр парадного портрета социально острой исторической картины, в то время как пейзаж и натюрморт ютились на окраинах официального искусства.