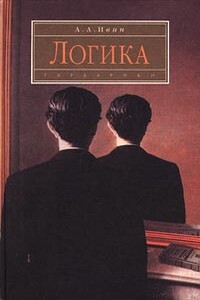Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 124
Рассуждения Мура являются, конечно, чересчур абстрактными, чтобы быть достаточно убедительными. Тем не менее, они интересны как иллюстрация точки зрения, что возможна не только любовь к моральному добру, но и влечение, если не любовь, к моральному злу.
Мы без особых колебаний говорим, что человеку свойственна любовь к истине и любовь к прекрасному, и что ему трудно длительное время пребывать в обществе патологических лжецов или в среде, где недооценивается и тем более попирается красота. Осталось бы непонятным, если бы для добра, стоящего в одном ряду с истиной и красотой, было сделано исключение. Любовь к добру кажется столь же реальной, как и любовь к истине и прекрасному.
Страстное тяготение ко всему, что несет в себе положительную ценность, что соответствует стандартам добра, не предполагает, конечно, существования «добра вообще», некоего особого, постигаемого только умом предмета – «добра как такового». Любовь к добру не означает и любви ко всем, без исключения его проявлениям. Как и прекрасное, добро настолько безгранично по формам своего проявления, что едва ли найдется индивид, способный, при всей широте его души, с любовью воспринимать всякое добро.
Любовь к добру не предполагает, наконец, общего согласия в отношении того, что является, а что не является добром. Люди по-разному понимают добро, и человек тянется к тому, что он сам считает позитивно ценным, точно так же, как его больше привлекает не то, что принято считать красивым, а то, что ему самому кажется таким.
Здесь уместно рассмотреть более специальный вопрос о значении или значениях «добра»[121]. Мы будем говорить, как это делается обычно, главным образом о значениях «добра», но рассуждения о «добре» нетрудно обобщить на случай других оценочных понятий [122].
О чем идет речь в высказывания «Данный предмет (ситуация) является добром», чему именно приписывается в нем положительная ценность?
Одно время довольно распространенным было убеждение, что оценки являются простыми выражениями внутренних переживаний, подобными непроизвольным выкрикам, и ничего не говорят ни о предметах, которых они грамматически касаются, ни о психических состояниях людей, высказывающих оценки. Это убеждение всерьез отстаивалось например, А. Айером, Р. Карнапом и другими философами-неопозитивистами.
Другим ответом на вопрос о предмете оценок является мнение, что они представляют собой высказывания людей о собственных психических состояниях (эмоциональных, волевых или интеллектуальных), интроспективные суждения, не касающиеся каких-либо внешних объектов.