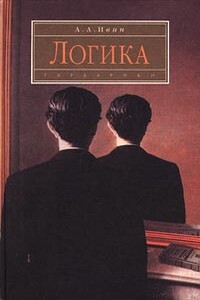Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 116
Как поэт, Франциск тонко ощущает пол неодушевленных предметов, называя братом сильный, радостный огонь, сестрой – чистую, незамутненную воду. Персонифицирование природных стихий только внешне напоминает античный мифологизм. Франциску не могло прийти в голову сопоставить, к примеру, воду с нимфами, а огонь с циклопами. Его мировоззрение не было возрождением язычества, как это иногда считается. Скорее, оно представляло собой результат закономерного развития средневекового мироощущения, попытку возвращения последнего к свободе и свежести раннего христианства. Без пантеистического вседовольства Франциск воспевает не природу вообще, а именно тварь, как то, что сотворено, как переход от небытия к бытию. В отличие от св. Августина, который видел ущербность природы в том, что она сотворена из «ничто», Франциск ценит всё, включая также ничто, из которого всё создано.
Из отношения Франциска к миру, из его понимания природы и идеи равенства всего сотворенного богом вытекал его призыв к нищете как условию достижения свободы. Этот призыв завербовал многих сторонников. Он отдаленно перекликается с практикой гораздо более позднего реального коммунизма. Стать как брат одуванчик, как сестра маргаритка, не печься о завтрашнем дне, не обременять себя ничем лишним в этом мире, чтобы свободно, как рыбка, проскочить через любую сеть, – такова предпосылка внутренней свободы.
Францисканская идея равенства всех тварей нарушала, конечно, один из главных принципов средневекового христианского мировоззрения – иерархизм, в соответствии с которым человек находится намного ближе к Богу, чем животные и растения, а тем более чем неживая природа. И это, наряду с проповедью нищеты, вызывало серьезное недовольство церкви, по крайней мере, на первых порах. Однако в целом Франциск не только не противоречил христианскому мировоззрению средних веков, но в своей суровой аскезе и энтузиастической любви к Богу был образцом средневекового христианского подвижника.
Талант подвижничества и поэтический дар позволили Франциску столь непопулярные в миру самоотречение, покаяние и нищету представить в героической красоте, как воплощение идеалов любви и рыцарства. Духу Франциска противоречило систематическое изложение своего учения, он пошел другим путем – превратил саму свою жизнь в поэзию: «… Вместо того чтобы петь хвалы бедности, он предпочел раздеться донага и быть бедным; вместо того, чтобы воспевать милосердие, предпочел ухаживать за прокаженными и замерзать от холода, отдав одежду нищему; вместо того, чтобы громко восхищаться цветами и птицами, горами и лесами, предпочел жить среди них и стать для них своим» (М. Стикко).