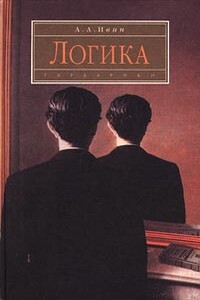Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 113
К примеру, Ж. Терсон, почитавший святого Иосифа, углублялся в такие детали жизни последнего: почему он воздерживался в браке; как он узнал, что Мария уже имеет в чреве и т. п.
Народный проповедник Оливье Майар предлагал своим слушателям «прекрасный богословский вопрос»: принимали ли Дева в зачатии Христа достаточно активное участие, чтобы действительно считаться Матерью Божей? Хейзинга справедливо замечает, что подобное смешение теологического и эмбрионального подходов не кажется слишком уж назидательным, особенно если учесть, что оно допускалось в диспутах с участием многочисленной публики [107].
Приземление веры порождало фамильярное отношение к богу, как ее объекту. Сложилась даже поговорка: «Пусть Бог решает, поскольку Он человек в годах».
Подводя итог этому историческому экскурсу, можно сказать, что истолкование религиозного как эротического в любви к богу вовсе не является сколько-нибудь устойчивой традицией. Такое истолкование не вытекает из самой сути любви к богу. Оно выходит на сцену в периоды ослабления религиозного духа, когда пошатнувшуюся веру пытаются поддержать, привязывая ее к самым ярким и острым земным переживаниям.
З. Фрейд предполагал, что неприемлемые для человека и общества влечения (прежде всего сексуальные и агрессивные), вытесненные из сознания в сферу бессознательного, вновь проникают в сознание, но уже под различными масками. Религия, по Фрейду, – одна из таких социально приемлемых масок, результат сублимации, т. е. преобразования вытесненного полового влечения в духовную деятельность. Верующий, как и невротик, погружается в мир религиозных фантазий, чтобы там найти «заменяющее удовлетворение». Соответственно, религию Фрейд называет то «проецированной во внешний мир психологией», то «сублимированным продуктом сексуальных влечений», то «коллективной иллюзией, возникшей вследствие подавления первичных природных влечений» [108].
В этой концепции религии и истоков любви к богу исчезают такие компоненты этой любви, как любовь человека к человеку и космическая любовь. Стирается различие между «любовью к богу» и «любовью в боге». Исчезает также намеченное еще древнегреческими философами различие между любовью как возвышенным, «святым» влечением человека к истине, добру, прекрасному, и любовью, в которой проявляется чувственная, страстная природа человека.
Христианская религия настаивала на «духовной» любви к богу как единственно достойной человека. Кажется, однако, очевидным, что в любви к богу есть не только элементы чисто духовной любви, но и восторженной влюбленности, страстной самоотдачи. Не случайно, некоторые восточные религии усматривают в телесно-чувственных отношениях своего рода религиозный ритуал, приближающий человека к богу. Но компонент чувственной любви определенно не является решающим в любви к богу. Это верно даже для периодов упадка религиозной веры, когда такой компонент выходит на передний план.