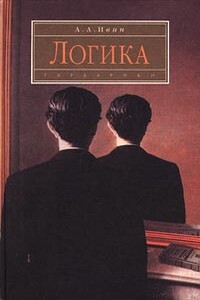Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 110
«Любовь к Богу заставляет св. Франциска находить радость во всем, особенно же в совершенном страдании, и приводит его к выводу, что жизнь прекрасна и тем прекраснее, чем она мучительней; эта любовь заставляет его обнять смерть как сестру, и если поэты до него говорили, что любовь есть смерть, то св. Франциск говорит, что смерть есть любовь…» (М. Стикко).
В воззрениях Франциска есть несомненный налет мистицизма, но пронизанного народной свежестью и бодростью духа. Его проповеди заимствовали содержание у жизни, его гимны, впервые написанные не на латыни, а на живом итальянском языке, вливали в старую веру струю радости, любви и оптимизма.
Следующий эпизод из жизни Франсциска выразительно говорит о том, что любовь небесная столь же реальна, как любовь земная, и что первая вполне способна пересилить и вытеснить вторую. Семнадцатилетняя девушка Клара из знатной семьи страстно захотела быть монахиней. Франциск помог бежать ей из дому, и это было похоже на обычный романтический побег – она вышла через дыру в стене, пересекла лес и в полночь ее встретили с факелами.
«Скажу одно, – замечает Честертон, – если бы это было романтическое бегство и девушка стала бы возлюбленной, а не монашкой, весь современный мир счел бы ее героиней. Если бы Франциск поступил с Кларой, как Ромео – с Джульетой, все бы их поняли.» [100].
Народное предание создало такой яркий символ дружбы Франциска с Кларой. Однажды жители деревни, где они остановились, подумали, что деревья и хижины загорелись, и побежали их тушить. Но они увидели, что все тихо, а за окном Франциск говорит с Кларой о небесной любви. «Трудно найти, – заключает Честертон, – лучший образ для предельно чистой и духовной любви, чем светло-алое сияние, окружающее двух людей на холме; чем пламя, не питающееся ничем и воспламеняющее самый воздух» [101].
По мысли В. С. Соловьева, любовь является сложным переплетением жалости, благоговения и стыда. Благоговение, величайшее почтение преобладает в сыновней любви. Сыновняя привязанность, распространяемая на умерших предков, а затем и на более отдаленные причины бытия (вплоть до всемирного проведения, единого бога), оказывается корнем всего религиозного развития человечества.
Любовь к богу в своей основе и в своем истоке есть любовь к отцу и создателю и, значит, в конечном счете – это «превращенная» форма любви к человеку.
Яркое описание глубины и силы «святой любви» к богу дает М. Шелер: «…Люди, переполненные нею, выносят любую боль и саму смерть не с неохотой и терзанием, но охотно и с блаженством. Это не те, для которых жизнь не была бы большой ценностью – ибо как можно было бы ею «пожертвовать»? – но те, которые любят ее как великое добро, и отличаются единственным – еще больше любят что-то иное; это люди, которые выносят боль, не будучи к ней нечувствительными; люди, у которых, однако, «терпению» боли – благодаря любви и верности, возникающим у них в ответ на что-то святое, – сопутствует счастье, в блеске которого все радости и все блаженство жизни бледнеют и теряют свое значение. Эти люди добровольно решаются на смерть (как Будда или Франциск Ассизский), принимая ее не как «зло», каковым она, несомненно, является в отношении жизненных ценностей, но для «лучезарную возлюбленную и нареченную» (какой ее видел Франциск.)»