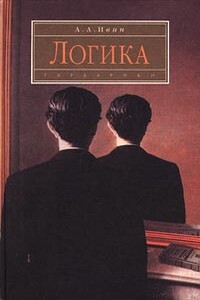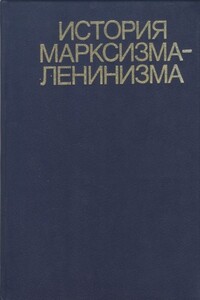Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека | страница 108
Здесь вспоминается древнегреческий философ Пифагор, впервые употребивший, как говорят, слово «философия» (буквально – «любовь к мудрости») и оторвавший понятие «первоначало» от физических элементов. Начало всех вещей, говорили Пифагор и его ученики, – число. Явление музыкальной гармонии, астрономические, климатические и биологические феномены обнаруживают некую соразмерность, в свою очередь регулярность выражается в числовых пропорциях. Тем самым число становится причиной любой вещи, оно передает суть взаимосвязи всего сущего. Если все является числом, порядком, то и весь космос представляется в виде численно упорядоченной гармонии, познаваемой во всех ее частях. Пифагорейцы, писал Аристотель, первыми научились применять математические понятия. Элементы числа в их представлении были элементами самих вещей, а весь универсум – числовой гармонией. Физический мир выводился из понятия числа.
Разумеется, началом мира можно считать не только математические объекты, но и объекты иного рода, скажем, человеческие ощущения или переживания. Отрицание реальности как самостоятельной сущности можно рассматривать как одну из форм влечения к смерти.
9. Любовь к богу
Некоторые атеисты склонны считать любовь к богу лишенной подлинной искренности и глубины. В эпоху Просвещения, когда религиозная вера трактовалась упрощенно и прямолинейно, такая любовь представлялась даже чем-то вроде притворства.
С вульгарным атеизмом, снисходительно-высокомерным отношением к религиозной вере, не находящим ничего святого не только в мире, но и в душе человека, сейчас, как будто, покончено. Любовь к богу была, а во многом и сейчас остается одним из самых глубоких человеческих чувств. Эта любовь иногда достигает такого накала, что становится доминантой жизни человека и пересиливает все другие его страсти, включая эротическое влечение и саму любовь к жизни.
Английский писатель Г. К. Честертон, написавший книгу о средневековом религиозном энтузиасте Франциске Ассизском, справедливо замечает, что любовь Франциска к богу останется непонятной до тех пор, пока религия рассматривается только как разновидность философии. «… Только самая личная из страстей поможет в какой-то мере хоть что-нибудь понять. Человек не кинется в снег из-за идеи или тенденции, он не будет голодать во имя отвлеченных, пусть самых правильных понятий. Но он перенесет и голод, и холод по совсем другой причине. Он перенесет их, если он влюблен. Расскажите жизнь Франциска, как жизнь трубадура, безумствующего во имя дамы, и все станет на свое место. Никого не удивит, что поэт собирает цветы на солнцепеке и простаивает ночи в снегу; превозносит телесную, земную красоту и не ест; славит золото и багрец – и ходит в лохмотьях; стремится к счастью – и к мученической смерти. Все эти загадки легко разрешаются в простой истории любой благородной любви; а его любовь была так благородна, что девять человек из десяти даже не подозревают, что бывает такая»