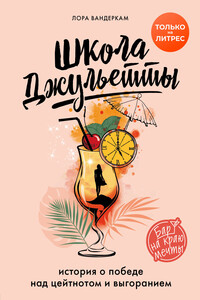Созидание души | страница 24
По контрасту с продуктивными ценностями, к которым мы привыкли, страдание получает здесь позитивную оценку: оно представляет собой не последнюю стадию потери всего, а начальную ступень приобретения. Аналогичным образом одиночество, которое сегодняшняя позиция социальной активности обесценивает, является не конечной точкой заброшенности, а начальным условием для открытия величайшего присутствия – божественного; и не в меньшей степени для открытия созидательного начала, отличного от Эго, которое в современных понятиях является продолжением этого присутствия.
Если даже утрата Бога и разочарование миром заставили умолкнуть звучание божественного Слова и развеяли его облик, соответствующее чувство не исчезло, а стало более личным, изолированным от шумных зрелищ, которыми масс-медиа заполняют образовавшуюся пустоту.
В лирическом стихотворении Рильке (Осень) вся земля падает с небес в темноту и одиночество. Бог больше не небесное всеприсутствие, а невидимая рука, направляющая это падение. Бог – падение, а не подъем.
Современный религиозный опыт настолько противоположен мирской суете, что переживается вдали от нее. «Religion is what the individual does with his own solitariness… and if you are never solitary you are never religious» (Религия – это то, что индивид делает со своим одиночеством… и кто никогда не бывает одинок, никогда не религиозен)>21. Трансформированный таким образом религиозный опыт теряет признаки встречи с всеобщим, славным, всемогущим. Это сокровенный опыт, переживаемый при определенных условиях. Плод экзистенциального тупика, изоляции, ограниченный во времени и в пространстве душевного мира, таков он и в осознании. Тот, кто его испытывает, не может знать, является ли живительная встреча, которая помогает преодолеть остановку, всего лишь метафорой движения души или особым проявлением другого бытия.
Иными словами, «творческий больной», который возобновляет движение после ступора и растерянности, не признает сегодня свое психологическое восстановление за результат божественного вмешательства; он не знает, обрел ли он в себе «креативность» или искру божью, вложенную в него Создателем.
По сравнению со временами, когда христианство управляло всеми аспектами жизни, а художник или артист чувствовал себя осененным божественным вдохновением, посвящая свое творчество почти исключительно религиозным темам, его чувство сейчас бесконечно более одиноко и, соответственно, повторяя вслед за Уайтхедом эту внешне парадоксальную мысль, более религиозно.