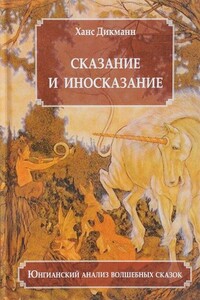Мать, тревога и смерть. Комплекс трагической смерти | страница 51
Философы-пессимисты и поэты-романтики не высказывают отчетливо желание смерти. Тем не менее, в произведениях художественной литературы можно найти намеки или интуитивное понимание. Можно упомянуть несколько романов: «Спаркенброк» Чарльза Моргана (40), «Смерть в Венеции и Волшебная Гора» Томаса Манна (158) (159), «Лорд Джим» Конрада (160), «Лавка Древностей» и «Тайна Эдвина Друда» Чарльза Диккенса (161). Романы Хэмингуэя и поэзия Т.С. Эллиота содержат более завуалированное желание смерти, в то время как в некоторых произведениях Джона Донна оно становится почти откровенным (162). Автобиографические работы могут выражать это желание очень ярко (163), (164).
Желание смерти может быть обнаружено во многих повседневных видах деятельности, в подсознательном выборе, в способах приспособления, в антиобщественном поведении, в реакциях на стресс, в подверженности несчастным случаям, в пагубных привычках (аддикциях), в неврозах и в депрессивных состояниях, в определенных психосоматических недомоганиях и органических болезнях. Hallman (49) приводит длинный перечень его проявлений:
«Желание смерти принимает много разных форм. Это инертность, которая наваливается на нас, притягательность бездействия. Оно становится побегом от боли и страдания, ненадежности и напряжения, это уход от процесса роста, это жертва. Это неспособность к интеграции. … Это желание покоя для разума, прекращения суматохи. Это потеря автономности и энергии. Оно действует как консервативная жизненная тенденция: платоническое влечение к чему-то неизменному, постоянному, абсолютному. И диаметрально противополое: это инфантильное желание самопоглощения, это инцест, это Фаустовское желание полного удовлетворения».
Для того, чтобы проследить за всеми ответвлениями страха смерти и желания смерти, потребовалось бы изложение динамической психологии и долгий экскурс в область антропологии, социологии и органической медицины.
Резюме
В этой главе мы обратились к индивидуальным подтекстам значения смертности, рассмотрев установки по отношению к ней. У одного и того же человека установки многочисленны и противоречивы, варьируют от простого мнения до глубоко скрытой предрасположенности. Для того, чтобы раскрыть установки, оказывающие серьезное влияние на мотивацию, необходимо проникнуть в глубокие слои психики, используя проективные методики и интуитивный анализ.
Установки, вынесенные из опыта младенчества, предшествуют тем, которые появляются благодаря культуре или религии. На самом деле, коллективное представление является результатом совместного действия индивидуальных установок. Вопрос о том, бессмысленна ли жизнь по причине своей ограниченности во времени, или это, наоборот, придает ей особый смысл, по-видимому, возникает из-за страха. Образы и ассоциации формируются у человека под воздействием смерти других людей, но только потеря амбивалентно любимого объекта существенным образом влияет на его установки. Реакции могут относиться не только к самой смерти, но и к процессу умирания, а также к возможному загробному существованию. Это все фазы единой концептуальной системы, созданной угрозой трагической смерти. Два неизвестных «когда» и «как» смерти пугают потому, что люди боятся преждевременной и трагической смерти. На установки влияют субъективные жизненные ожидания, варьирующие по степени вероятности от надвигающегося неотвратимого уничтожения до повышенного риска. Конфронтация со смертью, даже просто размышления о ее неизбежности и окончательности, пробуждает тревогу и защитные механизмы, ассоциирующиеся с идеей трагической гибели. В преклонном возрасте страх смерти у человека не ослабевает. У женщин он чаще проникает в подсознание, чем у мужчин. Одна из причин этого кроется в том, что страх связан с биологическими функциями. У женщин в большей степени выражены мазохистские и садистские (проявляющиеся слабее) защитные тенденции. Религия, возможно, больше не инспирирует страх смерти, но и не смягчает его.