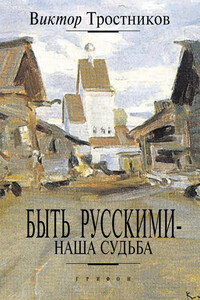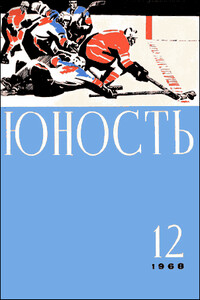Россия земная и небесная. Самое длинное десятилетие | страница 5
Думается, он был основоположником нового для того времени типа литературы, перехода ее на третью стадию развития. На первой стадии она занималась описанием событий, происходящих с персонажами и вокруг них. Этим литература занималась, начиная с Античности вплоть до конца Средневековья. Описывали события эпосы, саги, руны, сказания, былины и так далее. Святогор едет по дороге и видит суму переметную; Илья Муромец направляется в Киев через Чернигов и встречается с Соловьем-разбойни-ком. Сказитель ничего не сообщает нам о переживаниях Святогора, не сумевшего поднять суму, и Ильи, сумевшего приторочить разбойника к седлу и доставить его князю, да его и самого это не интересует. Переживать предоставляется слушателям былины, которые ставят себя на место ее героев. Но около XVIII века европейская литература начала входить во вторую стадию – проявлять повышенный интерес к внутреннему миру своих персонажей, к тому, какие эмоции они испытывают в тех или иных обстоятельствах. Пример – «Страдания молодого Вертера» Гете, причем пример, ставший весьма заразительным. Здесь автора волнует не столько то, что делается вне Вертера, сколько происходящее в нем самом, ибо это помогает понять особенности его души. Это же занимает и Пушкина: он не описывает конкретные любовные похождения Онегина, как это сделал бы средневековый писатель, а знакомит нас с психологией этих похождений («Как рано мог он лицемерить, таить надежду, ревновать…» и тому подобное). Достоевский в «Бедных людях», вызвавших бурный восторг Белинского, прямо предоставляет Макару Девушкину изливать свои переживания в письмах, которые и становятся тут главным предметом повествования. Психологическая литература не упразднила событийную, а сосуществовала с нею, однако претендовала на более высокий ранг, считая себя «передовой».
И вот появился граф Толстой, «прогремевший, как гром среди ясного неба, своими “Севастопольскими рассказами”». Это было уже нечто совершенно новое – литература вошла в третью стадию своей исторической эволюции.
Метод, к которому прибегнул Толстой с самых первых своих произведений, основан на тонком различении двух вещей: чувств (не важно, индивидуальных или коллективных), определяющих восприятие окружающего, а значит, и поведение, и мотивации этого восприятия и этого поведения. До Толстого писатели считали, будто чувства и есть мотивация, а он впервые догадался, что эта подлинная мотивация лежит на более глубоком, подсознательном уровне личности или социума и порождает нужные ей чувства, которые мы принимаем за первопричину наших поступков. В чем причина такой маскировки? Толстой понял и это. Дело в том, что подлинная мотивация всегда является более низменной, приземленной, грубой, чем те чувства, в которые она себя облекает и которыми мы объясняем и оправдываем свои действия. Слово «всегда» здесь существенно: оно выражает закон, относящийся к природе человека. Его можно назвать