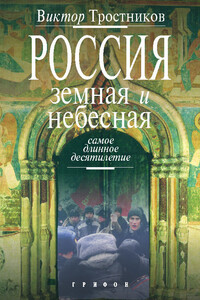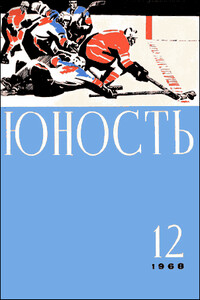Быть русскими — наша судьба | страница 16
Не менее важным обстоятельством является то, что протестантизм породил великую европейскую науку, вернее, точные науки и естествознание (то есть то, что по-английски именуется science). Она появилась только в XVII веке, хотя интенсивно развивающееся европейское хозяйство давно в ней нуждалось. Спрашивается: почему же она не появилась раньше? В данном случае приходится согласиться с тем ответом на этот вопрос, который злорадно дают атеисты: её душила Церковь. Это не пропаганда, это правда. Дело в том, что наука в указанном понимании этого слова есть не что иное, как исследование свойств физической материи и создание теоретической модели, позволяющей предсказывать её поведение. Такая модель реализуется в перечне имеющих математическое выражение «законов природы». Чтобы открывать эти законы, отдавая этому занятию всю свою жизнь, учёный должен предполагать, что они неизменны и вечны: если бы они были сегодня одни, а завтра другие, какой бы был смысл их формулировать? Но их неизменность и вечность означает то, что они «встроены» в саму материю, как говорят философы, имманентны материи, то есть составляют её неотъемлемую внутреннюю характеристику. Иными словами, учёному, вглядывающемуся в поведение материи, методологически удобно считать, что это поведение не зависит ни от каких посторонних влияний, то есть что материя представляет собой субстанцию – самодостаточную и замкнутую в самой себе данность. Но тут его одёргивает Церковь, говоря: у тебя нет права на такую презумпцию, материя сотворена Богом и им держится, её поведение определяется Его о ней замыслом. Поэтому, чтобы её познать, надо в первую очередь познать этот замысел, а это может только богословие, и с ним тебе с самого начала необходимо советоваться. Учёному же эта принудительная опека со стороны религии не могла нравиться, и в нём накапливались относящиеся к Церкви отрицательные эмоции, легальный выход которым дал протестантизм. Уже этим он порадовал науку, а кроме того, как ей было не благодарить его за санкцию заниматься любым делом, лишь бы оно делалось добросовестно, в частности и исследованием тварной материи, отвлекаясь от мысли об её Творце. Как только такое абстрагирование стало легитимным, наука начала подниматься как на дрожжах, и что примечательно, – все её «отцы-основатели» – Декарт, Паскаль, Ньютон, Лейбниц и Гюйгенс – были по своим убеждениям протестантами.
Конечно, вмешиваясь в дела науки, католическая Церковь была не права. Верно, что материю создал Бог, верно, что Он же наложил на неё законы её поведения, верно и то, что Он в любом месте и в любой момент может отменить эти свои законы, что бесчисленное число раз наблюдалось в феномене чуда, – например, в мироточении икон локально и временно отменяется закон сохранения материи, и маслянистая ароматная жидкость появляется на образе, возникнув «из ничего». Но учёные и не возражают против этого – их ведь учили Закону Божию, и они помнят слова молитвы «Бог идеже хощет побеждается естества чин». Они просто хотят понять, как ведёт себя материя, когда она предоставлена Богом самой себе, а чудеса, которые могут с ней происходить, уже не в их компетенции. А поскольку чудеса довольно редки, разве будет плохо, если мы точно будем знать, как ведёт себя материя в остальное время?