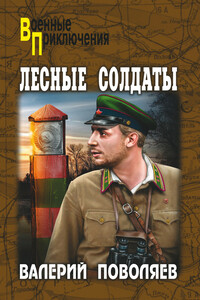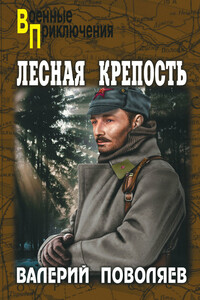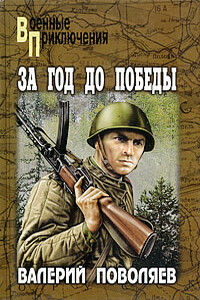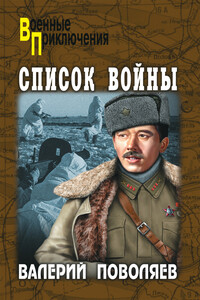Шебаршин. Воспоминания соратников | страница 42
Подбор кадров для аппарата представителя, за исключением разведывательной линии, был монополизирован Управлением кадров КГБ. В результате в Берлин нередко попадали люди неквалифицированные, не владеющие немецким языком, отбывающие службу до пенсии. Управление кадров редко учитывало деловые качества работников. Оно было, пожалуй, самой негибкой структурой во всем основательно бюрократизированном Комитете, и печальные промахи в его работе случались не реже, чем удачи. В Берлине эти промахи были не столь заметны, поскольку количество работников превышало потребность в них, и некомпетентность того или иного протеже Управления кадров легко компенсировалась деятельностью активного профессионального ядра — сотрудников Первого главного управления.
Пост представителя КГБ в Берлине был в Комитете одним из самых престижных. Представитель поддерживал постоянный контакт с председателем КГБ и всеми его заместителями, свободно входил в любой кабинет Комитета. Через него решались с немецкими партнерами наиболее деликатные вопросы, передавалась особо важная информация восточногерманским руководителям, которую в Москве по тем или иным причинам решали не доверять послу. Естественно, представитель должен был устанавливать доверительные отношения с бессменным министром госбезопасности Мильке. Министр поощрял контакты сотрудников МГБ с советскими коллегами и, разумеется, получал подробную информацию о каждой встрече, что позволяло ему точно оценивать настроения советской стороны и круг ее интересов. Представительство было в такой же степени источником информации о Советском Союзе для Берлина, как сведений о ГДР для Москвы.
Мильке регулярно принимал представителя КГБ, изредка бывал у него в гостях, непременно встречался с делегациями из Москвы. Канал КГБ был нужен министру, в частности, для того, чтобы самостоятельно, в обход Хонеккера и Политбюро ЦК СЕПГ, доводить в Москву оценки ситуации в руководстве, стране и вокруг нее. Мильке относился к Хонеккеру с заметной долей скептицизма и даже неприязни, которая иногда прорывалась у него в беседах с людьми из КГБ. В наших кругах у Мильке была прочная репутация друга Советского Союза, и он ее полностью оправдывал.
Тесные контакты с руководством МГБ всех уровней в Берлине и округах, личные связи в высоких политических и административных сферах, агентурные источники в иностранных представительствах в Восточном и Западном Берлине в сочетании с разведывательной информацией из третьих стран позволяли КГБ отчетливо видеть обстановку в ГДР. Сообщения КГБ отличались отсутствием дипломатической двусмысленности и желания подстроиться под вкусы начальства. Мы были уверены, что многое из нашей информации — оценки хода перестройки и деятельности советских лидеров, сведения о закулисной деятельности западных партнеров в ГДР и других странах Восточной Европы, об усилении сомнений и недоверия к Москве и т. п. — не может быть приятным для Горбачева и его окружения. Хуже было то, что информация разведки зачастую не вызывала у них никакой реакции. Советская политика попала в глубокую колею, откуда ей уже не было суждено выбраться. До фактического краха ГДР оставалось меньше месяца, а до формального объединения Германии — меньше года, но советская сторона твердила: «Европейские реальности — это прежде всего существование двух германских государств, двух военно-политических союзов… Никто не имеет права менять эти реальности в одностороннем порядке. Они — наше общее наследие». Москва гипнотизировала сама себя, события развивались помимо ее воли.