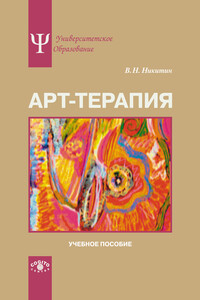Психология креативности | страница 103
Однако некоторые авторы не соглашаются с идеей, что о креативности можно говорить и за пределами сферы деятельности выдающихся творцов. По мнению Николлса (Nicholls, 1972), неправомерно применять психометрический подход к креативности по отношению к «рядовым людям», потому что эта форма оценки, называемая им «псевдокреативной», не имеет ничего общего с «подлинной креативностью». Николлс не предлагает, однако, никакого критерия для обнаружения «подлинной креативности», подчеркивая лишь, что исследования креативности выдающихся людей представляют особый интерес. Эта точка зрения в очередной раз приводит нас к обсуждавшейся уже проблеме субъективности в оценке выдающихся людей, так как она тесно завязана на культурные и исторические оценки. В качестве примера можно вспомнить, что большинство критиков, присутствовавших на премьере «Весны священной» Стравинского, были далеки от понимания, что это произведение – одно из важнейших в истории музыки. История изобилует примерами, когда творцов совсем не замечали их современники, и даже заключали в тюрьму и казнили, потому что их креативность считалась опасной для общества.
Позиция Гизелина (Ghiselin, 1963), также поддерживающего эту дихотомию, выглядит более разработанной. По его мнению, существуют две качественно различные формы творческой продукции: с одной стороны, «вторичная» креативность, которая распространяет одно или несколько известных понятий на новую сферу применения, с другой стороны, «первичная» креативность, приводящая к фундаментальным изменениями в нашем восприятии реальности. Это различение кажется слишком строгим: если ему следовать, то подавляющее большинство творческой продукции окажется вторичным.
Браун (Brown, 1989) отмечает, что приводимые Гизелином примеры первичной креативности – это создание теории квантов и теории относительности. С этой точки зрения, продолжает он, тезис Гизелина фактически распространяет позицию Куна (Kuhn, 1962) по поводу научных открытий на все остальные области креативности. Кун считал, что существуют два способа функционирования науки. «Нормальная» наука, предполагающая развитие теорий в рамках существующей парадигмы, противопоставляется «революционной» науке, предполагающей отказ от существующей парадигмы и разработку новой. Однако вероятен и такой ход событий, когда узкая по своему характеру, или «нормальная» (если воспользоваться термином Куна), научная работа приводит к новому взгляду в рамках существующей парадигмы, что может иметь далеко идущие последствия для данной области (Sternberg, Kaufman & Pretz, 2002).