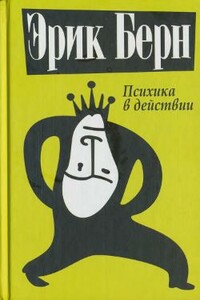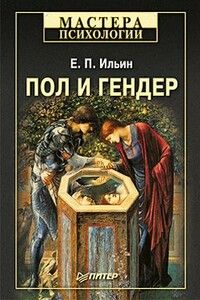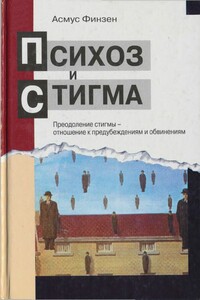Мысленные образы. Когнитивный подход | страница 52
Интересно, что Финке (Finke, 1989) пришел к такому же заключению, основываясь лишь на критическом анализе экспериментальных данных, полученных при исследовании зрительных характеристик мысленных образов и степени перекрытия между зрительными образами и зрительным восприятием. Опираясь на «принцип перцептивной эквивалентности», описанный ранее в этой главе, Финке делает следующий вывод:
Эти результаты подтверждают принцип перцептивной эквивалентности, но вместе с тем указывают и на его ограниченную применимость по отношению к зрительной системе. Мысленные образы, по всей видимости, не затрагивают уровень сетчатки и подкорковый уровень зрительной системы…Также они, вероятно, не включают начальные стадии обработки информации в зрительной коре, где происходит анализ простых свойств объектов. Скорее всего, этот принцип распространяется только на ассоциативные уровни зрительной системы (р. 58).
Большинство исследований мозговых механизмов, обеспечивающих возникновение и функционирование мысленных образов, касалось в основном изучения зрительных образов и не затрагивало образов других модальностей. Однако имеются факты, что общие принципы, установленные на материале зрительных образов, применимы также и к образам движений. В частности, измерение локального мозгового кровотока показало, что когда человек представляет себе, как он выполняет какое-либо действие, увеличивается и его мозговая активность в тех областях, которые обеспечивают управление реальными движениями (Decety, 1996). Это, в свою очередь, помогает объяснить, почему такой прием, как «проигрывание в уме» (то есть мысленный повтор определенных действий), улучшает результаты во многих спортивных дисциплинах (см. Decety and Ingvar, 1990).
Образы пациентов с «расщепленным» мозгом
«Вычислительный подход», сформулированный Косслиным с соавт. (Kosslyn et al., 1984), нашел интересное применение в исследованиях пациентов с «расщепленным» мозгом (комиссуротомией). Фара с соавт. (Farah, Gazzaniga, Holtzman and Kosslyn, 1985) просили одного такого пациента оценивать отдельные строчные буквы английского алфавита по высоте. Когда строчные буквы кратковременно предъявляли справа или слева от точки фиксации взора, то испытуемый достигал 100 % точности для букв, предъявляемых в правое зрительное полуполе (то есть в левое полушарие), и 90 % точности – для букв, предъявляемых в левое зрительное полуполе (то есть в правое полушарие). Но когда буквы были предъявлены в их заглавном написании, а испытуемого попросили делать оценки на основе образа этих букв в их строчном написании, то он давал 97 % верных ответов для букв, предъявленных в правое зрительное полуполе, и только 43 % (то есть меньше уровня случайных ответов) – для букв, предъявленных в левое зрительное полуполе. Другими словами, этот пациент не мог сформировать образы строчных букв при предъявлении заглавных букв в правое полушарие, но с легкостью справлялся с заданием при предъявлении букв в левое полушарие. Эти результаты посчитали подтверждением гипотезы Фары (Farah, 1984) о левополушарном локусе формирования образов.