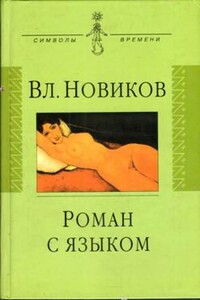В наших переулках | страница 53
Это не имело отношения к моим ночным страхам. А вот когда я обнаружила, что наша рубчатая стеклянная дверь обладает не одним лишь дневным световым свойством, но и вечерним, это уже было серьезно: при приглушенном в комнате свете и освещенной передней была видна тень проходящей по передней человека, и когда звук его шагов приближался, тень удалялась, а когда звук удалялся, тень приближалась. Это вот было страшно. И снова вспоминалось, что старик Истомин умер в нашей комнате, что может опять присниться бабушка, что прабабушку сожгли в таинственном, только что построенном в Москве крематории, об устройстве которого ужасные вещи рассказывали друг другу взрослые.
Так начинает делиться моя жизнь на дневную, обыкновенную, и ночную — мучительную, полную фантазий, страхов, размышлений и наблюдений. Впрочем, иногда мечтательная ночная жизнь врывается и в день и, идя в одиночестве по нашим переулкам, я в задумчивости прохожу мимо собственного парадного.
Вскоре после известия о бабушкиной смерти из Ландеха пришел громоздкий багаж: зашитая в чистенькие, полосатые половики ширма, «киргизский» ковер и бабушкина шуба на лисьем меху — Одуваловы поделили «наследство». Телеграмма о смерти пропала, а такая посылочка — дошла! Она изменила облик нашей комнаты, придав ей «окончательный» вид, который сохранялся почти неизменным до самого конца 30-х годов, а то и до войны, хотя и в это время к нам продолжали иногда поступать никому не нужные осколки давнего дворянского обихода.
Так неведомо откуда появилась у нас громадная гравюра Бёклина в роскошной черной раме. Под картиной была надпись: «Villa am Meer». Выбор художника, как и мебели, был продиктован не вкусом обитателей комнаты, а случаем. Но рассматривать подробности таинственной картины, взобравшись, как можно выше — на стол, на секретер, на шкаф, стало одним из моих постоянных и любимых развлечений. Каких только романтических историй я ни сочиняла, глядя на загадочную женскую фигуру под вуалью, стоящую у края бьющих о берег морских волн!
Но все-таки в первую очередь бабушкина деревенская ширма и прабабушкин дворянский секретер были главными и постоянными предметами и приметами нашего дома: такой ширмы ни у кого в Москве не было! Ветхий серый шелк папа заменил ярко синим грубоватым холстом (не от декорации ли какой остался?), и отныне ландехская ширма отделила наши три детские кровати от остальной комнаты своими надежными двухметровыми панелями — так было вплоть до самого моего замужества, а, вернее даже, ухода из дома. В 30-е годы творчество ландехских столяров и старые, 900-х годов, папины подарки бабушке — из Астрахани и Семипалатинска, из Томска и Иркутска — послужили нам на славу. «Киргизский» ковер перекочевал с ландехского кованого сундука на родительскую тахту, из верха шубы («довоенное сукно»!) сшили маме пальто — последнее пальто в той нашей общей жизни, а сама лиса, увы, попала старьевщику: они еще изредка ходили по арбатским переулкам.