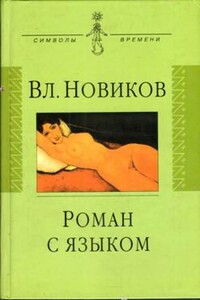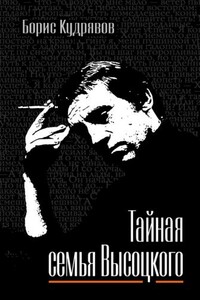В наших переулках | страница 43
Этой же границей, 1929 годом, отделяется в моей памяти один облик моего отца от другого. Уходит в прошлое мой красивый победительный папа — его элегантные костюмы и модные галстуки, артистичность его манер, его веселые декламации Блока и Северянина, внезапные театральные диалоги с мамой — Грибоедов и Ибсен, Шекспир и Зудерман. Вместо белозубого пышноволосого молодого человека 20-х годов появляется другой человек — бедный советский чиновник 30-х годов.
По роду моих занятий мне не раз приходилось встречаться с рассуждениями литературоведов о «бедном чиновнике» и «маленьком человеке», о том, как изображали его Гоголь и как Достоевский и в чем между ними разница, как затем советские литераторы, то третируя, то амнистируя, то поучая великих предшественников, вносили в этот образ свой победный оптимизм. Приходилось и мне самой кое-что подобное говорить к случаю и по поводу — чего за жизнь не приходится делать! Но всегда при этом жило во мне стыдное ощущение неправды, скрытое больное родство с образом и темой, принуждающее совсем к иным словам и ином тону. Папа! Предзимними московскими сумерками, где-нибудь на деловых улицах старой Москвы — в этих тесных каменных ущельях, когда толпы отработавших служащих устремляются по ним к своим домам, а небо — желтое, холодное — с какой-нибудь одной черной вороной на нем — так безжалостно к человеку, я до сих пор мысленно вижу среди живых людей своего отца — в его старом грубошерстном пальто с потертым барашковым воротником, с портфелем, полным бумаг для вечерней работы, спешащим с Мясницкой на Арбат — к нам, его маленьким детям. В эти грустные, «экзистенциалистские» часы мое сердце всегда сжимается болью за него. И последний раз — в таком же холодном, но мокром, стыло-блестящем осеннем Ленинграде, на крайней, идущей вдоль Фонтанки аллее Летнего сада: сердце сжалось и покатилось к ногам, когда в лице — некрасивом, смытом — случайного встречного пожилого служащего, в его скромном достоинстве и куцей одежде — я узнала родство с другим, всегда до конца красивым лицом. Папа! Не он, но вечная боль о нем.
Иногда я делаю личные поправки к избитой литературоведческой теме, размышляя, почему нет у меня — при полном понимании — высоты и холодности, чтобы предпочесть гениальный гоголевский гротеск сочувственному рыданию Достоевского. И еще мне кажется, что и они, великие печальники и плакальщики, не знали, что еще больнее и трагичнее, когда у маленького, затерявшегося в жизни человека сначала высоко маячило впереди нечто, что объединяло его с большим миром, будоражило кровь предчувствием призвания и таланта, а уж потом — Мясницкая, портфель, набитый вагон трамвая или метро (в исторической последовательности десятилетий), убогая комнатушка, заплаты на пальто — и так изо дня в день, из года в год. После всего, что прокатилось по миру — и по Ландеху, и по Волге, и по Сибири? Все сначала?