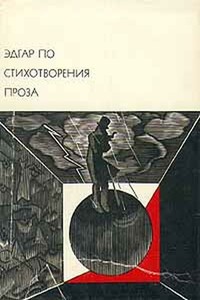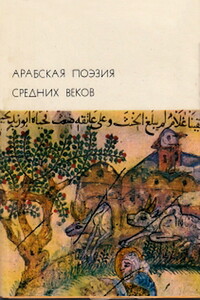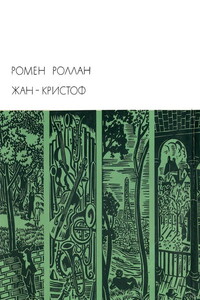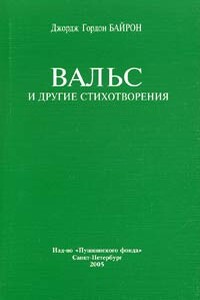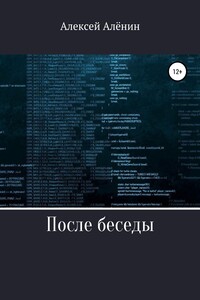Дон-Жуан | страница 17
Это «шекспировское разнообразие» проявляется во всей структуре поэмы — и в ее необычайно широком, динамическом и контрастном общественном фоне, и в сюжете, полном драматических конфликтов, где трагическое и комическое стремительно сменяют и оттеняют друг друга. Прямые и скрытые, нередко шутливо переосмысленные цитаты из Шекспира пронизывают поэму (так же, как и письма и дневники Байрона этих лет). «Век вывихнут, — но вывихнут и я», — так, например, перефразирует поэт применительно к самому себе известные слова Гамлета…
«Шекспировским разнообразием» поражает и язык поэмы. Байрон с виртуозной легкостью переходит в своих октавах от высокого обличительного пафоса к шутливой веселости, от философского раздумья — к прозе повседневного быта, от лирической нежности — к язвительной насмешке… Каламбуры, анекдоты, автобиографические воспоминания, внезапные полемические экскурсы (вроде спора с идеалистом Беркли) и сенсационные технические прогнозы (о движении пароходов на Луну!), саркастические намеки, недомолвки, оборванные на полуслове риторические обращения, ссылки на Библию или на песенку Беранже, воровской жаргон и цитаты из латинских классиков — все это могло бы показаться хаотичным, если бы этот видимый хаос не был подчинен ясной и целеустремленной мысли поэта. Читая «Дон-Жуана», нельзя не почувствовать, как наслаждается автор самим процессом созидания и сознанием своего поэтического мастерства.
«Если я горжусь кое-чем в моей поэзии, то еще более я горд некоторыми из моих предсказаний», — писал Байрон Киннерду 22 ноября 1820 года в разгар работы над «Дон-Жуаном». Время, к которому так часто взывал поэт, не обмануло его надежд. Люди новой эпохи и нового мира, к которым издалека обращался создатель этой поэмы (песнь восьмая, строфы 135–137), слышат в ней его поныне живой голос и преклоняются перед гражданским и творческим подвигом великого революционного романтика.
А. Елистратова
Дон-Жуан
Перевод Т. Гнедич
«ДОН-ЖУАН»
Упоминания о «Дон-Жуане» («Don Juan») появляются в переписке Байрона в июле 1818 года. Песнь первую он начал еще в июне и кончил в ноябре 1818, вторую — в январе 1819 года. Несмотря на сопротивление Мерри, постоянного издателя Байрона, обе песни вышли из печати летом 1819 года. Поздней осенью того же года и ранней зимой следующего поэт работал над песнями третьей и четвертой. Раздраженный борьбой с Мерри и его «треклятым пуританским советом», протестовавшим против «непристойности» поэмы, Байрон лишь к концу 1820 года завершил песнь пятую. Опубликовать новые песни ему удалось только в августе 1821 года.