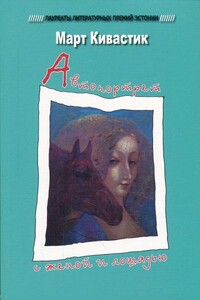Разворот полем симметрии | страница 2
Отказываясь от инструментария медиа-социальных технологий, поэтика Сафонова настаивает на особом месте и функции поэзии как искусства в сегодняшней лингво-политической среде. Но может ли книга в эпоху цифровых визуальных медиа существовать иначе, чем эпитафия письменности: травестийный траур грамотного меньшинства по субъекту истории 1 или окаменелость культуры, случайно сохранившая ДНК модернити в природе повседневности?
Во многом поэтические стратегии развиваются сегодня в реакции на кризис самого медиума письма/печати. Традиционализму, который даже в русскоязычной поэзии сегодня связан не с силлабо-тоникой, а с отрицанием роли средства, противостоит то, что можно назвать поэзией расширенного поля, в одном из вариантов: или Gesamtkunstwerk блокбастер медиа-поэзии, где текст иллюстрируется цветомузыкой на манер видеоклипов, или наивный постмодернизм, что складывает блоки анонимных высказываний из отходов деятельности машин коммуникации, или романтический материализм перформанса, ностальгически возвращающий текст к телу, переводя любое сингулярное присутствие в понятный власти семиотический код.
Современная ситуация, однако, отличается от периода 1960 – 1990-х тем, что является уже не мульти-, а постмедиальной: здесь «различия, некогда представавшие как качественные различия средств или субстанций, оказываются лишь способами пересчета и представления информации»2, а смысл заключен не столько в самом средстве, сколько в «цепочке его изменений».
Закат письменности как средства, на самом деле, лишь один из эпизодов вечной чехарды образов и слов – как произвольного и последовательного, двумерного и одномерного способов записи/считывания информации. На каждом этапе их взаимодействия важным оказывается не исчезновение того или иного материального носителя, но то, в каком виде сохраняется отношение слов и вещей, концептов и объектов. «Пока в ответном письме не нашлось слова, на которое стало бы ответом увеличенное в три раза изображение», – пишет Сафонов. В самом общем виде, поле этой поэтики определяется со-отношениями плоскостей и процессов, кругов и линий, сцен и сценографий: иными словами, (не)видимого и записанного. Три основных параметра тут «взгляд, речь, отсутствие», отношение которых таково, что «[м]ожно было бы смотреть, но отказываться от того, что бы это могло означать» 3.
Развиваясь из концептуальной революции искусства 1960-х, открывшей, что последнее – это не столько вещи, сколько идеи, поэзия расширенного поля совершает контрпереворот, оказываясь пленницей новых средств. В свою очередь, письмо Никиты Сафонова продолжает прерванный импульс авангардной стратегии дематериализации искусства, искусства-как-идеи. В настоящей книге поэзия предпринимает редкую попытку пройти за пределы страницы не к новым средствам, но от них – поскольку логика иных медиа уже вписана в поэзию – в обратную сторону: к основанию самой языковой способности, попутно вновь пересекая плоскость печатной страницы, отслеживая своим путешествием историю переходов между медиумами и формами.