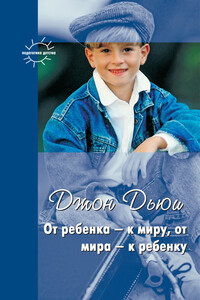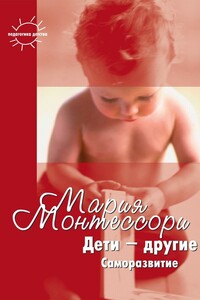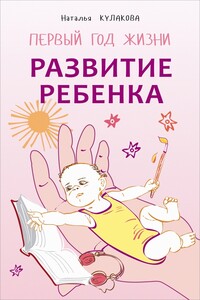О новой педагогике. Избранное | страница 59
Укрепить мотивы
Когда мы в предыдущих главах говорили о силе нравственного внушения и примера, о развитии воли, детских идеалов и нравственного чувства, почти все сказанное нами в равной мере могло относиться и к семье, и к школе. Теперь мы приступаем к области явлений, имеющих мало отношения к семье и преобладающих в школе. Если мы заглянем в себя, то мы найдем в своей душе неодолимые наклонности, пружины, то инстинктивно толкающие нас навстречу ближнему, побуждающие нас согласовать свои действия, свои настроения, свои идеи с поступками, чувствами и идеями других людей, то соединяющие людей узами сознательной привязанности и объединяющие их в союзы, подобно тому как атомы, обладающие взаимным притяжением, дают соединения, называемые молекулами, а эти последние, также благодаря только взаимному сцеплению, образуют тела. Мы верим, что мы любим людей, жалеем их, желаем им добра и что они нас тоже любят, что им не чуждо великодушие, милосердие, сожаление и преданность. Это – любовь к ближнему, по одной терминологии, это – социальные или общественные чувства, по другой. Мы радуемся радостям ближнего, мы горюем его печалями, мы сознаем необходимость заботиться о нем, мы готовы для него на некоторые жертвы.
И мы убеждены, что развитие этих чувств представляет важнейшую, наиболее существенную задачу в нравственном воспитании. Да и что такое сама нравственность, как не цемент, связующий людей друг с другом в целые общества? Если бы человек жил вне общества, не существовало бы самого понятия о нравственности. Отношения между людьми, составляющими общество, их отношения к самому обществу – вот что служит предметом этики. Этика ближе всего к социологии. Чтобы какое-нибудь общество было здоровым, надо, чтобы отношения, связующие его членов воедино, были нормальны…
Но в данном случае важен не столько вопрос о том, что есть, сколько вопрос о том, что будет. Человечество развивается так же, как растет дерево, как развивается ребенок. То, что казалось непреложным законом в его прошлом, может оказаться уродливым исключением в будущем.
Мы часто поражаемся эгоизму маленького ребенка. Он думает только о себе, все тащит для себя одного, ежеминутно готов вступить в ссору и драку с товарищем из-за обладания какой-нибудь игрушкой, яблоком, простой палочкой, изображающей лошадь. Но если бы кто стал на основании этих наблюдений предсказывать, что этот ребенок никогда не будет в силах принести значительную жертву для кого бы то ни было другого, тот впадет в грубую ошибку. Такая характеристика вполне справедлива для прошлого и отчасти для настоящего этого ребенка, но она будет совершенно несправедливой для его будущего, она не может быть перенесена на взрослого человека, каким станет потом этот ребенок. Мало этого: ребенок, каков он сегодня, носит в себе, в скрытом состоянии, зародыш менее корыстного будущего, и оно проявится в его поступках и образе жизни, когда он наберет достаточно силы и мощи.