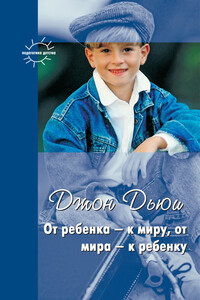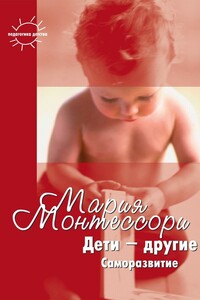О новой педагогике. Избранное | страница 30
Дидактический метод отличается одним соблазнительным свойством. Многие учителя убеждены, что такой способ берет меньше времени и что только пользуясь им они могут справиться со сложными требованиями экзаменационных программ. Справедливо ли это утверждение? Вот вопрос, на который мы пока не решаемся дать определенного ответа. Конечно, этот вопрос было бы легко решить, если бы мы считали возможным основывать методику преподавания на одной диалектике. Нам тогда следовало бы только остановиться на симпатичном нам положении и доказывать его чисто диалектическим способом, т. е. тем способом, каким можно защищать самые смелые гипотезы. Но дело обучения так серьезно и важно, ошибки в этом деле ведут к таким опасным последствиям, что здесь требуется особая осторожность в суждениях.
Чтобы дать прямой ответ на поставленный выше вопрос, надо решить этот вопрос путем рационально поставленного опыта. Есть мнение и за, и против. Есть, например, очень авторитетное мнение, заключающееся в том, что «кто щедр на время сначала, тот выгадывает во времени потом». Если эвристический метод и берет очень много классного времени на первых порах, зато когда ученики благодаря этому методу научатся самостоятельно учить и полюбят учение, они даже во время школьного курса сделают гораздо больше, нежели ученики, воспитанные на помочах.
Однако нетрудно найти аргументы и за противоположное мнение. Но, как бы мы ни решили этот вопрос, дело совсем не в том, как скорее подготовить учеников к экзамену, как быстрее выполнить программу, – все дело в том, чтобы развить умственные силы учащихся, а этого можно достигнуть только применением, где следует, эвристического метода преподавания.
До сих пор еще остается спорным вопрос, что важнее: формальное образование или реальное, отвечающее жизненным требованиям? Методы обучения или сообщаемые в школе знания и навыки, нужные в жизни? И на чем должен сосредоточить свое внимание учитель? Но мы считаем ошибочной и вредной самую постановку этого вопроса, и это по следующим соображениям. Были целые эпохи, когда торжествовал взгляд, будто существенно важно только одно формальное образование, только одна гимнастика ума, без всякого отношения к требованиям современной науки, хотя бы эта умственная гимнастика ограничивалась лишь изучением грамматических форм каких-нибудь языков – древних для средней школы и родного и церковнославянского для низших.
Предполагалось, будто ум, изощренный на решении грамматических вопросов, будет так же быстро и верно решать и всякие иные вопросы, какие поставит ему жизнь; будто внимание, воображение и память, развитые на изучении форм языка, будут с таким же успехом служить ученику и тогда, когда он выйдет из школы и жизнь поставит перед ним тысячи самых разнообразных задач. Предполагалось, будто каждая из названных нами способностей человека есть нечто цельное, во всех своих частях однородное и на всякую работу пригодное, как (я извиняюсь за грубое сравнение) молоток, которым можно и орех колоть, и гвозди вколачивать. Но такое предположение оказалось совершенно ложным. Занятия математикой развивают способности к дедуктивному мышлению, но математика не научит классифицировать и наблюдать, не даст привычки к индуктивному мышлению, к выводам из конкретных фактов. Эти последние качества мышления развивают занятия естественными науками.