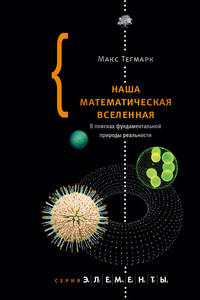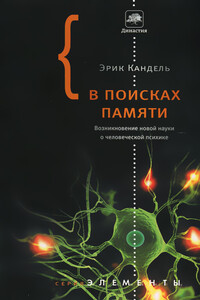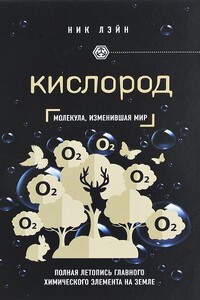Лестница жизни | страница 28
Итак, если мы вынуждены пользоваться нашей универсальной десятифунтовой купюрой, то, несмотря на то, что нам нужно потратить всего два фунта, чтобы пошло дело и мы получили прибыль в восемнадцать фунтов, нам придется потратить десять фунтов на получение тех же десяти фунтов. Бактерии вынуждены подчиняться этому уравнению: ни одна не способна расти на прямой реакции водорода с углекислым газом, используя в качестве носителя энергии исключительно молекулы АТФ. И все же бактерии растут, используя остроумный способ разменивать «десятифунтовые купюры» АТФ. Этот способ (за его открытие эксцентричный британский биохимик Питер Митчелл в 1978 году получил Нобелевскую премию) известен под пугающим названием хемиосмос. Присужденная Митчеллу премия наконец подвела черту под ожесточенными спорами, продолжавшимися не одно десятилетие. Теперь, в начале нового тысячелетия, уже ясно, что открытие Митчелла должно считаться одним из главных научных достижений XX века[7]. Но даже тем немногим исследователям, которые давно доказывали важность хемиосмоса, трудно объяснить, почему этот странный механизм повсеместно распространен в живой природе. Ведь он, наряду с генетическим кодом, циклом Кребса и АТФ, универсален и свойствен всему живому. Судя по всему, обладал им и последний всеобщий предок — ЛУКА. Мартин и Рассел объясняют, почему.
В самых общих чертах хемиосмос представляет собой движение протонов через мембрану (отсюда сходство в названии с осмосом — движением жидкости через мембрану). В процессе дыхания происходит следующее. От молекул пищи отнимаются электроны и передаются кислороду по цепочке переносчиков. Выделяемая на нескольких этапах этого процесса энергия используется для перекачивания протонов через мембрану. В результате на мембране создается протонный градиент. Мембрана при этом действует по принципу гидроэлектростанции. Подобно тому, как на гидроэлектростанции вода из водохранилища крутит турбины, вырабатывающие электроэнергию, в клетках поток протонов через мембрану позволяет вырабатывать АТФ. Открытие этого механизма было для всех полной неожиданностью: вместо простой и понятной реакции двух веществ сюда вклинивается какой-то странный протонный градиент.
Химики привыкли работать с целыми числами: одна молекула не может реагировать с половиной другой молекулы. Наверное, самое поразительное свойство хемиосмоса состоит в том, что в нем на полную катушку используются дробные числа. Сколько электронов нужно передать по цепочке, чтобы синтезировать одну молекулу АТФ? Где-то между восемью и девятью. Сколько протонов должно пройти для этого через мембрану? Самая точная из полученных на настоящий момент оценок такова: 4,33. Откуда берутся такие числа, было совершенно непонятно, пока ученые не оценили посредническую роль протонного градиента. Ведь градиент предполагает миллионы переходных состояний, он не сводится к целым числам. А главное преимущество градиента состоит в том, что для синтеза единственной молекулы АТФ одну и ту же реакцию можно повторять неоднократно. Если в ходе некоей реакции выделяется сотая доля энергии, необходимой для получения одной молекулы АТФ, эту реакцию можно просто повторить сто раз, поэтапно наращивая градиент, пока «водохранилище» из протонов не наполнится настолько, чтобы можно было выработать одну молекулу АТФ. Этот механизм сразу дает клетке возможность экономить, словно набивая ее карманы разменной монетой.