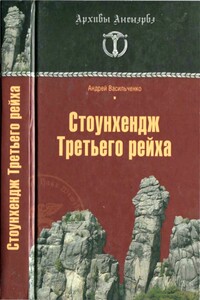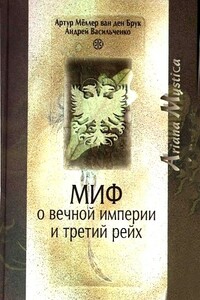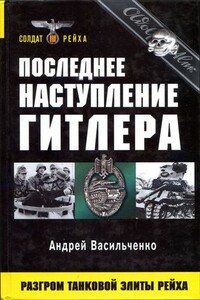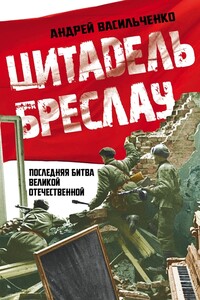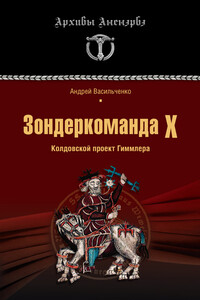Герольды «Наследия предков» | страница 22
Некогда высказанные в адрес Георга Дехио упреки в недостаточности патриотизма, как видим, оставили свои следы, так как он попытался «исправиться», заняв более «подобающие» для немецкого исследователя позиции. Если же говорить о «Бамбергском всаднике», то отсутствие какой-либо реальной возможности установить, чьим же именно было это скульптурное изображение, привело к тому, что изваяние стало восприниматься как некий абстрактный символ. В 1927 году Вильгельм Пиндер в своей работе назвал «Бамбергского всадника» «символом всей эпохи и благородного духа в целом». В начале XX века рыцарь эпохи династии Гогенштауфе-нов, запечатленный в камне, воспринимался как некий этический Парцифаль, символ возвышенности и благородства. В 1925 году в своей книге «Шедевры Бамбергского собора» Герман Бенкен, наверное, одним из первых высказал мысль о том, что изваяние всадника надо было воспринимать как своеобразный этический тип. Десятилетие спустя заведующий кафедрой истории искусств в Боннском университете Альфред Штанге объяснял студентам, что конная скульптура является «памятником вечному немцу». В 1941 году немецкий исследователь Ганс Янцен в своей книге «Немецкая пластика XIII века» дал лапидарное описание этого монумента. Несмотря на то что автор не пытался восстановить исторический контекст, данная характеристика в рамках нашего исследования кажется весьма интересной и символичной: «Мы ничего не знаем о всаднике в Бамбергском соборе, равно как ничего не можем сказать о его возникновении. Он пережил столетия, находясь на вершине колонны, став не просто блистательным изображением немецкого рыцаря, но и символом присущего тому времени образа мышления».
Теоретики национал-социалистического искусства, а также немецкие расовые теоретики задолго до прихода Гитлера к власти провозгласили «Бамбергского всадника» визуальным символом парадигмы расового учения. Так произошел переход от образа, предложенного представителями национальной истории искусства, к аллегории агрессивной расовой политики. Один из самых известных и авторитетных в Германии расоведов, Ганс Гюнтер, использовал голову всадника уже не просто как национальный символ, а как некое визуальное воплощение «чистой германской расы». Только этим можно объяснить, что изображение головы наездника из собора в Бамберге, вначале появившись на республиканских банкнотах, постепенно перекочевало на обложку изданного в 1930 году «Краткого расоведения немецкого народа». Почти в аналогичном ракурсе было помещено фотографическое изображение головы всадника на титульном развороте книги Шульце-Наумбурга «Искусство немцев», которая была издана в Германии в 1934 году. Подобная медиализация облика «Бамбергского всадника» позволяла менять его символическое значение. Если поначалу он должен был ассоциироваться с «истинным немецким искусством», то затем стал выражением историко-генетического героизма «немецкого народа», используясь исключительно как пропагандистское средство. В качестве примера использования ставшего почти иконографическим мотива лица всадника из Бамберга может служить обложка учебника, выпущенного в 1937 году. На нем была воспроизведена черно-белая фотография повернутого в профиль всадника, за которым возникает грубо нарисованное красным цветом лицо солдата вермахта, облаченного в стальной шлем. Это школьное пособие, автором которого был некий Вильгельм Коттенродт, выходило в учебной серии «Народ и фюрер. Немецкая история для школы». Весьма показательным является название этой книги: «Немецкие вожди и мастера. Исторические портреты из современности и прошлого с приложением врагов и предателей». Ученикам немецких школ не требовалось даже предпринимать сколько-нибудь заметных интеллектуальных усилий, чтобы провести иконографическую дешифровку образа «Бамбергского всадника». В тексте учебника не было сказано ни слова об этом изваянии, однако обложка сразу же позволяла его опознать как «исторический пример национального героизма». Подобного рода иллюстрации были обязаны своим появлением националистической стереотипизации, которая была предпринята немецкими искусствоведами еще во времена кайзеровской эпохи и Веймарской республики. Никто из специалистов не возражал и не выступал против того, что средневековая скульптура была по большому счету стилизованной как на изображениях, так и на фотографиях. Это относится как к периоду до 1933 года, так и после прихода Гитлера к власти. Вне зависимости от техники воспроизведения изображения «Бамбергского всадника» его облик сокращался исключительно до уровня портрета. Однако средневековая скульптура никогда не была рассчитана на то, чтобы ее рассматривали вблизи. Она находилась на большой высоте, и разобрать портретные черты безымянного наездника без специальной техники не представлялось возможным. Только с появлением и развитием фотографии у «Бамбергского всадника» появились черты, которые можно было трактовать как идеологические: неподвижный взгляд, задумчивая решительность, спонтанный поворот головы.