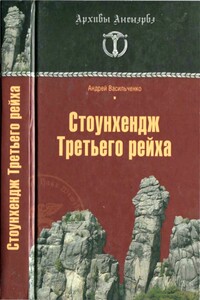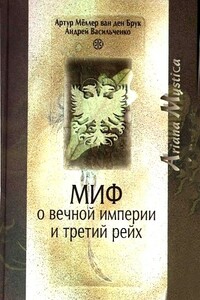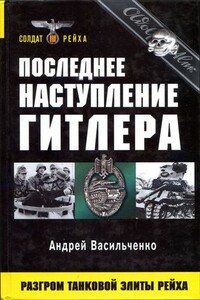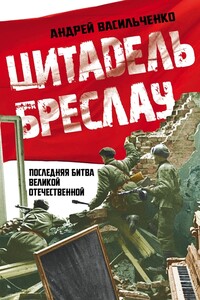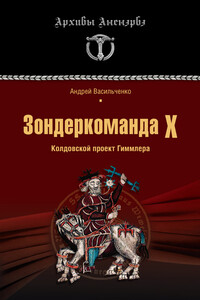Герольды «Наследия предков» | страница 18
Если мюнхенский «Танец морисков» должен был утрированно символизировать собой всю «немецкую готику» (по крайней мере во время «геральдического» шествия), то барское рококо, которое было представлено одноименной группой, представало в неком гротескном виде. На повозке находились четыре небольших ангела, которые символизировали собой охоту, рыболовство, сельское хозяйство и военное искусство. Над ними посередине возвышался дующий в трубу гений. Подобного рода скульптурки и ансамбли из фарфоровых статуэток стали появляться на границе XVII–XVIII веков. Однако их популярность в XIX веке стала падать, а к началу XX века фигурки ангелочков и вовсе превратились в кич, доступный даже самым бедным горожанам. Однако на повозке «баварское рококо» фигурки ангелов должны были предстать в качестве символов великолепной и по-своему сакральной культуры, которая лишь затем и была растиражирована среди обывателей. Здесь в первую очередь подразумевались братья Азам, а также Франсуа Кювилье.
Девятиметровая модель Дома немецкого искусства, с одной стороны, выпадала из вереницы исторических образов. С другой стороны, она должна была символизировать собой наступление нового «блистательного времени немецкой культуры». Чтобы хоть как-то исправить этот стилистический диссонанс, ее сопровождали фанфаристы и юноши с гирляндами. Это весьма напоминало праздничные шествия XIX века, когда на улицы выходили представители различных цехов и процессий. В процессии группа «Дом немецкого искусства» занимала весьма символичное место — она располагалась между «баварским рококо» и средневековым искусством. То есть делался намек, что, являясь итогом многовекового развития немецкой культуры, национал-социалистическое искусство было все-таки самостоятельным явлением, причем его значение должно было быть настолько велико, что оно никак не могло располагаться в хвосте торжественной процессии.
Глава 2. «Бамбергский всадник» как вневременной символ Третьего рейха
Одна из групп «геральдического» шествия, которая называлась «Немецкое искусство», везла на передвижных подмостках большое гипсовое изваяние, которое являлось копией скульптуры так называемого «Бамбергского всадника». Поскольку группа должна была ассоциироваться с немецким искусством в целом, то можно было изначально предположить, что образ «Бамбергского всадника» имел большое значение для пришедших к власти национал-социалистов.
Пожалуй, никакой другой шедевр немецкого искусства не подвергался столь большому количеству культурно-исторических интерпретаций, как «Бамбергский всадник». Ему «посчастливилось» не только стать частью популярной культуры, но и объектом всевозможных идеологических спекуляций. В первые три десятилетия XX века фигура всадника, созданная во времена ранней готики, подвергалась анализу не только со стороны академической науки (в первую очередь искусствоведения), но и получила оценку со стороны идеологов германской расовой мысли. Во времена Третьего рейха эти устремления отчасти совпали, породив на свет не совсем историчную, но метафизическую интерпретацию изваяния. Надо отметить, что именно немецкие искусствоведы начала XX века сделали те предположения, которые позволили «Бамбергскому всаднику» стать фактическим синонимом «арийской культуры». Несмотря на однозначно националистические импликации, визуальное восприятие конной статуи прошло весьма противоречивый путь.