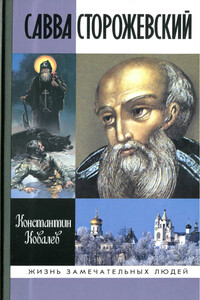Сестра моя Каисса | страница 7
Мама говорит, что, когда они стучали в дверь квартиры, грохот был ужасный. Переполошился весь подъезд. Но я этого не помню – я спал. А проснулся от громкого, отрывистого, неприятного голоса следователя. Что отвечали мои родители и произнесли ли хоть слово оба солдата, – не помню. Но металлический стук их прикладов и сейчас звучит в моих ушах. И тупые шлепки роняемых на пол книг. И скрип передвигаемой рывком мебели…
Шли первые дни 1953 года.
До смерти Сталина оставались считанные недели.
Кто написал донос на отца, какой «компромат» у нас искали, почему отца все-таки не арестовали, хотя известно, что для этого не требовалось доказательств (доказательства создавались по ходу следствия), – мы так и не знаем до сих пор. Понимаем, что повезло. Ужасное было рядом; слепое и бездушное, оно нанесло удар, промахнулось, но не повторило попытку, не стало настаивать на своем. Видать, тут же забыло о нас, жалких мошках, чудом пролетевших мимо пылающего горнила вселенского молоха. Судьба.
Потом в памяти как бы пробел, вернее туман, из которого то появится неясная тень, то выступят отдельные, отчетливые в каждой детали предметы, а иногда и целые эпизоды, которые трудно закрепить во времени, привязать к определенному, освоенному памятью месту. Да они, пожалуй, и не стоят того. Потому что истинная память – память, ставшая материалом твоей жизни, – нестираема и неизгладима, и не нуждается в доказательствах своей ценности, поскольку самоценна.
И тут я не могу удержаться – я должен запечатлеть картину, которая по значению своему несопоставима с предыдущей, – но что поделаешь! – чутье подсказывает, что именно ей здесь место, именно этому незначительному, однако по тем временам типичному, даже банальному эпизоду. А коль он просится в эту книгу – пусть будет в ней, чтоб в ней было все, как было.
Время действия – двумя-тремя годами позже; место действия – все та же комната.
Я подрос; моя деревянная кроватка заменена металлической. Я – зритель, сижу на маленьком стульчике; мама – оператор: она сняла с моей кроватки постель и, сидя на полу, выжигает из пружин клопов. Ее инструмент – спички. Почему не горящая лучина, не керосин, не кипяток, – не знаю. Именно спички. Мама зажигает очередную спичку, подносит к очередной пружине и водит по ней ровный треугольный огонек. Иногда мы слышим потрескивание. Мы думаем, что это гибнут клопы.
При этом мы беседуем.
Отец на учебе в Москве. Лариса в школе; кошке Мурке не нравятся горящие спички, и она через форточку убралась на заснеженный балкон, где у нее свои кошачьи счеты с воробьями. Мама мой единственный постоянный собеседник, она терпеливо отвечает на мои бесконечные вопросы и при этом неторопливо и добросовестно – пружину – за пружиной – очищает каркас моей кроватки от клопов. Клопы – привычная, даже неотъемлемая принадлежность быта тех времен. Может быть, где-то существуют антисептические средства, перед которыми клопы отступают, – мы их не знаем. Мы не знаем квартир, где нет клопов, поэтому гонять их бессмысленно: выгонишь одних – придут другие. Поэтому по всему городу, в каждом доме, с ними идет постоянная равнодушная война. Выжечь их из пружин – полумера; после этого полагается на ночь ставить ножки кровати в сосуды с водой – клопы не плавают. Но они чертовски сообразительны! Они забираются на потолок и оттуда планируют точненько в постель. Думаю, этих полетов не видел никто, но все убеждены, что это происходит именно так. Иначе не объяснишь, зачем клопам ночью бегать по стене и как они все-таки попадают в постель.