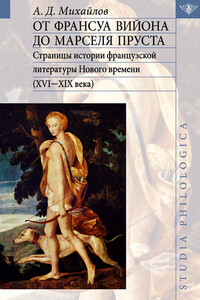Движение литературы. Том II | страница 20
Во-вторых, по контрасту легче поймем, на какой стержень все нанизывается теперь, когда над поэтическими головами уже не тяготеет дежурный «заказ времени».
Да, нынче таких лоскутно-коллективных сочинений с прежней легкостью уже, видно, не сошьешь. Это не значит, что у поэтов последней генерации нет сквозных, повторяющихся, даже типовых тем. Такие темы есть, но по большей части их наперед не угадаешь, заранее не считаешь с газетного листа. Полагаю, что эта косвенность и окольность, даже прихотливость связей с общезначимой тематикой ценна: свернув с освещенных магистралей, лирическая поэзия возвращается к себе самой.
Но что же это за темы, пересекающие границы стилистических направлений и даже идейных размежеваний? В основном они элегические. Все исходные темы традиционной элегии вернулись в это десятилетие, притом с такой настойчивостью и остротой, что независимо от большей или меньшей близости к литературным образцам они вместе воспринимаются как самоновейший признак жизненного состояния.
Время – утекающее, ускользающее, уносящее дни, годы, молодость, дробимое и рассекаемое стрелками на циферблате в ночные часы «бессонницы» (мне попалось не одно и не два стихотворения с таким названием); сам таинственный часовой механизм, его коварное нутро, словно бы ответственное за «мерную убыль» (И. Жданов).
(Николай Кононов)
«Мне не понять войны меж вечностью и годом, / меня копили те, кто канули на ней, / и вот уже ведут по темным коридорам, / здесь жизнь моя течет – и старший крикнул: “Пей!” / Столетие мое, я жизни не покину, / пусть факельщики тьмы и выстроят конвой. / Два миллиона лет я пробивал плотину / небытия. И что? Уже пришли за мной…» (Виталий Кальпиди).