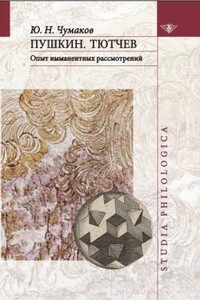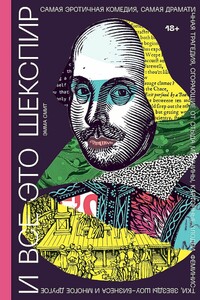Движение литературы. Том II | страница 131
В одной из ежеутренних молитв говорится: «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящего жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа…» Но для поэта, для художника, не впавшего в богопротивную клевету на бытие, «ночь этой жизни» непременно сверкает праздничными красками ослепительного дня. Таков парадокс веры и творчества. Словесные заставки Олеси Николаевой напоминают нарядные буквицы средневековых манускриптов и одновременно игрушечную и пылкую патетику Честертона; тут «перья дрожат на… серебряном шлеме, меч позвякивает на бедре», тут и «черный плащ с золотым шитьем», тут «пунцовая лента иль розан», и «слава рассыпающему первую зелень на черных ветках» (в «Гимне Свету»), и розовый персик, и благоуханная груша (в столь же, на свой лад, превосходном «Весеннем дне»). Летучий миг так же драгоценен, так же внедрен в вечность, как эпоха с ее массивной поступью, – и «дурочка-жизнь», наводящая марафет «перед зеркалом» (название стихотворения), так же благословенна в своем простодушном искусстве, как ваятель, работающий с нетленным мрамором. И как радостно, как безгрешно следить за тем, как некая юная Лейла «черной тушью глаза рисует, / голубой и розовой раскраской их оттеняет, / пурпурные блики накладывает на скулы / и расцветку вишневую к губам примеряет…». Известное аскетическое средство от любовной присухи, рекомендуемое «старым монахом»: вообразить телесную оболочку возлюбленного истлевшей до черепа и костей – бессильно помочь, ибо сиюминутный жизненный пафос любви нерасточим:
(«Встреча», 1986)
И все-таки – «нощь», ночь. Вспомним латинское название книжки. Любовь к року, к участи, к судьбине – amor fati – переводится, переосмысливается в одноименном стихотворении как «любовь к скорбям», ибо скорби поджидают человека на путях его исторических и личных, и мировую трагедию, некогда стартовавшую вместе с «земли безумным зудом», не обойти, не объехать. «Лишь трагичную маску мира сорви – под ней / тот же скорбный овал с трагедийным разрезом глаз». Разделяемый Николаевой этос требует мужества, требует приятия исчисленной судьбы: – Ей, гряди!