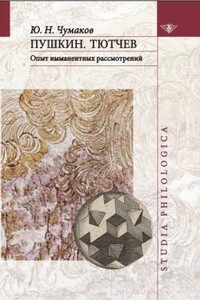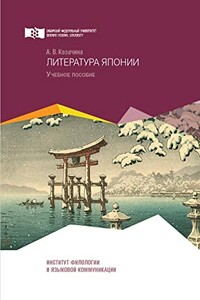Движение литературы. Том II | страница 104
Водолей предшествует Рыбам среди знаков Зодиака! – уж тем более знает это поэт, который сам по гороскопу Рыба. Не обмолвка ли? – думала я, простодушно не беря в расчет чуждые мне астрологические выкладки нью-эйджа (об этом чуть ниже). Но обратившись к следующему за этим стихотворению, решила все-таки: не обмолвка, нет. «А лишила муза разума – / ничего не говори, / справа ли налево сказано, / вспять ли писано – смотри – // тьма египетская случаем, / как квадратное письмо, / каменное и летучее / моисеево клеймо // с арабесками кириллицы, / тот реликтовый глагол, / где пресуществится силится / шпато-кварцевый раскол // в инобытие и сущее, / письменный смешав гранит, / всей архаикой цветущею / весть нездешнюю хранит».
Этот склад, где с непрерывностью речи спорит строгая прерывность строф, словно пробелы между загадочными письменами слагают их в осмысленную ленту текста, – прошу заметить особо. «Фифиа» писана «справа налево» и вспять, с арабесками родной кириллицы и реликтовыми славянскими глаголами; подобно сколу породы, испещренному штрихами вкраплений, это письмо знаменует собою разлом времени, очутившись в котором, можно двинуться против часовой стрелки, а можно перешагнуть ненароком границу между здешним и сущим миром («А кто видит мир без червивых дыр, а пылающим куполом как потир…»). В колее такого разлома Водолей действительно движется на смену Рыбам, а старые темы поэта пятятся вглубь, к своему корню и радикальному пределу: можно сказать – к изначальной черте и к тому, что за ней.
Распятого вниз головой святого апостола Петра из старого стихотворения сменяет безысходно-трагический Иуда, загадка чьей участи и предназначения мучила в русской культуре Леонида Андреева, Максимилиана Волошина, о. Сергия Булгакова. Наш современник, впрочем, не от них идет, с их домыслами и модернизацией, а исключительно от евангельского предания, но влагает в уста «апостола-предателя» такую неутолимую речь, как будто извлекает его, наперекор Данте, из девятого круга ада. Мучимый Петр прежде был писан на «фреске», теперь слышится вопль едва ли не личный («… набухает шея, чтоб хрипом Весть Благую подтвердить» – ср.: «Я хочу, я пытаюсь сказаться, но / вырывается из горла хрип…»). Прежде собратья Иова, «изверженцы и изгои», «прах гребущие по дорогам», – как пригнобленный давней раскулачкой Семен Усуд или насельники угрюмого дома престарелых, – вызывали у поэта сочувственное участие, традиционную русскую почтительность к беде да смутное чувство вины. Теперь, при всем этом (так очевидном в детском воспоминании о блаженной страдалице Даше), – почти физиологическое вникание в телеса убогих и, одновременно, библейский запрос об их участи.